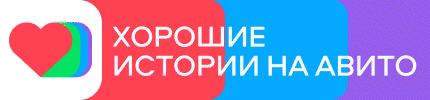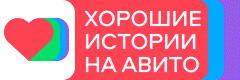Новый роман Владимира Маканина посвящен стукачам разных поколений*
*Роман "Две сестры и Кандинский" Владимира Маканина опубликован в "Новом мире" N 4
Роман Владимира Маканина "Две сестры и Кандинский" на первый взгляд кажется страшно устаревшим — как устаревшими кажутся отодвинувшиеся куда-то в полутень 90-е, на которые пристально и без симпатии смотрит автор. Даже и застойные 80-е ближе нам, и кухонные 70-е. Они вспоминаются, эти годы, как песни, колбаса, джинсы и молодость.
Не то 90-е. Точно по мановению незримой руки, 90-е одновременно существуют в двух измерениях: плотном коконе мифов и — пустоты.
Вот удивительно, вместе мы прожили это тяжелое время, но про эти годы, такие важные для нас сегодня, ничего не сказано, не осмыслено, не оспорено. И даже вялая дискуссия годовой давности о 90-х соскользнула в заранее подготовленное и безопасное русло: лихие то были годы или время надежд? Хотя наша сегодняшняя жизнь показывает — главный вектор времени был другим, именно тогда политика и экономика начали переходить под контроль спецслужб.
И вот как раз об этом новый роман Владимира Маканина.
Интерес писателя, одного из тех, кто сегодня поддерживает репутацию русской литературы как великой, к 90-м стал очевиден еще полтора года назад, когда в "Новом мире" появился его рассказ "Ночь... Запятая... Ночь". Путаная история с непонятными героями. В Москве 93-й год, горит парламент, ночью в городе стреляют, и вот на пороге маленькой гостиницы появляется странный человек, которому удается найти путь к сердцу смотрительницы гостиницы. Через день он исчезает, научив героиню выбросить разобранное на детали оружие, оставив за собой ощущение тревоги и холода. Да нет, не тревоги — потустороннего ужаса.
Таким же ужасом тянет и из подвальчика, где обитает главная героиня романа "Две сестры и Кандинский". Как будто приоткрылась форточка в другое измерение, где веют другие ветры, а зло имеет не причинно-следственное происхождение, а, как и положено, дьявольское. При этом дьявол имеет вовсе не острый профиль Бориса Абрамовича, а оловянный взгляд подполковника спецслужб.
Так вот, с выходом "Двух сестер" окончательно стало ясно: 90-е для Маканина остаются узловой точкой. В них для писателя ответ на сегодняшние вопросы. В них — точка отсчета его "чеченского" романа "Асан". И ответ этот вполне страшный.
Если б в стране существовала настоящая цензура, роман, конечно, не напечатали бы. Особенно на фоне разворачивающегося предвыборного пейзажа. Но пока еще у нас на настоящей промывке мозгов экономят.
А может, и нет. Посмотрим.
Этот роман — о стукачах. Шире — о тех невидимых работниках спецслужб, на которых и держится такая махина, как госбезопасность. Еще шире — о том, как плотно спецслужбы опутали страну, удушив ее творческие силы и способность к развитию, как воспроизводятся "органы" в каждом новом поколении.
В полуподвальной студии, предназначенной для вернисажей, диспутов и обучения рисованию, сходятся стукачи трех поколений. У каждого из них — свой путь в студию Кандинского, хозяйкой которой стала дочь прославленного диссидента. И кто из этих троих страшнее? Есть молодой политик Артем Константа, блестящий, говорливый, артистичный. За ним, как за дудочкой крысолова, идет толпа. Мы уже и забыли, что существовал такой симпатичный типаж. И выясняется: его путь в политику начинается с "сотрудничества". Выясняется случайно — в районном отделении "органов" его "застукал" мальчишка, случайный гость студии, заика Коля Угрюмцев.
Второй — Сергей Сергеевич, или Батя. В Москву он возвращается после многолетнего путешествия из Сибири. От "друзей по жизни", поясняет он Ольге, гостеприимной хозяйке и бывшей невесте сына Бати. Вот так, сына выставила (музыкант, балабол, тоже известный нам типаж), а отца пустила переночевать. И оказывается, что ездил Батя по Сибири замаливать грехи. Ездил по тем, кого сдал в далекие годы, кто свой срок отмотал, сил вернуться не нашел, а вот силы простить своего палача — нашлись. И простили, и приняли, и кров дали, пока Сергей Сергеевич свою квартирку на Арбате сдавал.
Но чем больше Батя (тут и задумываешься - не служебный ли это псевдоним) рассказывает о своих "друзьях по жизни", тем понятнее — не покаяние гнало этого основательного и крепкого мужчину по следам прошлого. Тут иное — не то человеческое любопытство, как после такого выживают, не то — досбор данных. "Работа такая",— отвечает Батя на вопрос несостоявшейся невестки, как же он до такого дошел. И это-то покаяние? Это его-то в утиль?
Да и "друзья по жизни" Батю не простили — хоть и рюмку наливали, и подарки дарили. И тут иное — то ли попытка понять, как же ты, Батя, с этим живешь, то ли возвращение к самому страшному, а значит, самому значительному в жизни. И чувствуешь, как по ногам тянет потусторонним холодом.
А третий? А третий — самый интересный — бездомный заика Коля Угрюмцев, уже поучившийся в детской школе КГБ у майора Семибратова и выгнанный за неуспеваемость. Заика, тупой, с плохой памятью, как говорит он о себе. И самый мастеровитый, самый наблюдательный, самый умный, самый циничный во всей этой стукаческо-диссидентской карусели. Его слова точны, как укол анестезиолога, его наблюдения убийственны, как наблюдения охотника за жертвой. За неуспеваемость, говорите, его выгнали? Только очень уж много он видит и слышит, перемалевывая картинки Кандинского в студии, и слишком неслучайно место, к которому он прибился.
Понимание, как плотна и крепка сеть, которую мы по счастливому недомыслию — совсем как заневестившаяся хозяйка подвальчика — не видим, апокалипсическая картина, как прорастают мертвые зубы и встают за рядом ряд железные солдаты, откроются каждому, кто отвлечется от традиционного для русской литературы сюжета — за кого выйдет замуж честная девушка? По тургеневской схеме — за сильного и смелого. Но то раньше было, а сейчас один — стукач, другой — пустышка. Да не за кого, жестко говорит Маканин. Притчевая основа его прозы здесь обнажена до каркаса. Расстановка героев показывает — кончились настоящие мужчины в стране, съеденной до сердцевины такими вот "отцами отечества". Нет нерассуждающей отваги, нет живого таланта, нет цельной любви. Из героев — только эти, из зубов дракона. Любить и уважать их невозможно, да и не надо — Батя, Артем и Коля вполне равнодушны к чужой брезгливости.
Впрочем, похоже, автор переоценил коллективную брезгливость. Сдается, что с ней так же неважно, как с отвагой, любовью и талантом.