Эффект сиртаки
Михаил Трофименков о «Греке Зорбе» Михалиса Какоянниса
Наверное, не один я испытал на себе то, что можно назвать "эффектом сиртаки" — эстетическое изумление, которое могло бы перейти в разочарование, если бы его не перебороло восхищение перед силой искусства, которое, конечно же, суть сплошное надувательство. Сиртаки пышет такой языческой, непосредственной, но грозной силой, что, кажется, не может быть ничем иным, кроме как анонимным излиянием коллективной греческой души. Потому-то и нелегко смириться с мыслью, что сиртаки всего полвека, что это гениальная выдумка Микиса Теодоракиса, сочинившего "народный танец" в промежутке между двумя отсидками в островных концлагерях для коммунистов. Сочинил он его как раз для "Зорбы", экранизации романа (1946) греческого классика Никоса Казандзакиса, автора, кстати, "Последнего искушения Христа". Сиртаки в "Зорбе" — клоунада, чистой воды "мамушка", которую семейка Адамс танцевала при Ватерлоо. Как хореограф дядюшка Фестер даже уступает Алексису Зорбе (Энтони Куин), сатиру и мастеру на все руки: и в том, что любое его начинание оборачивается катастрофой, нет с этим мастерством никакого когнитивного диссонанса. Зорба то ли взял под опеку, то ли устроился под крылом джентльмена-поэта Бэзила (Алан Бейтс), ушибленного идеей восстановить шахту, унаследованную им вместе с кусочком критской земли. Благодаря титаническим усилиям Зорбы, шахта так и не заработает, зато он продемонстрирует монахам (с рожами наивных душегубов), как превращать воду в вино, утопит в море партию строевого леса и научит Бэзила танцевать сиртаки, тем более неописуемый, что Куин отплясывал в финальной сцене со сломанной ногой. Какояннис нашел сиртаки отличную метафору: впервые эта музыка грянет в эпизоде жестокой качки, в которую угодил пароходик, следующий рейсом Пирей — Крит. Качка — это и есть сиртаки. Ну хорошо, а о чем еще, помимо сиртаки, этот фильм? Ответом на вопрос может служить только набор пошлостей. Типа: это фильм о том, что культуре, олицетворенной Бэзилом, необходима прививка стихийной, естественной жизни; что книжное знание мертво в отсутствии почвенной мудрости битых, но неунывающих людей. Или: это фильм о познании жизни, на зазывный голос которой поведется любой — что Бэзил, что Зорба,— но лишь приумножит печали. Оба они влюбятся: Зорба — в старую и трогательную куртизанку (Лиля Кедрова), Бэзил — в "красивую, дикую вдову" (Ирена Папас). И оба потеряют своих любимых: деревенские нравы дикие везде, а уж на Крите — особенно. Но пусть "мораль" фильма и звучит банально: эту банальность нейтрализует тот же "эффект сиртаки". Все, что происходит в "Зорбе", осенено невозможной, но органичной легкостью. Даже похороны юноши-самоубийцы, даже самосуд, даже убийство, когда девушке режут, как овце, горло, а потом, спрятав нож в карман, отправляются на поминки. Что бы ни творили островитяне, они творят это, словно танцуя. Зловещее молчание хора небритых мужиков — знающие себе цену танцоры держат паузу перед ураганом сиртаки. Площадь в деревне — древнегреческий амфитеатр. Можно сказать, что в "Зорбе" содержится весь Кустурица — младший носитель средиземноморского мироощущения: его "умца-умца" — этакий кабацкий сиртаки. В психологическом кино даже Зорба, не говоря уж о Бэзиле, должен после пережитого выть на луну. Но в мире фильма трагедии их не то чтобы не ранят: они принимают их, словно эти трагедии прописаны в сценарии жизни-спектакля, где отведенные им роли не предполагают терзаний. Если только не принять за выплеск душевных мук сам сиртаки.
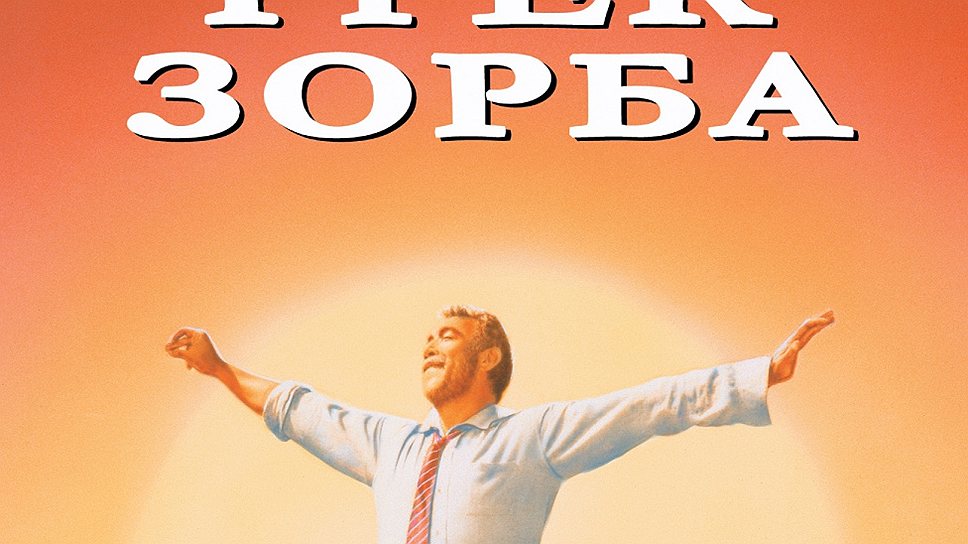
"Грек Зорба" (Zorba The Greek, 1964)



