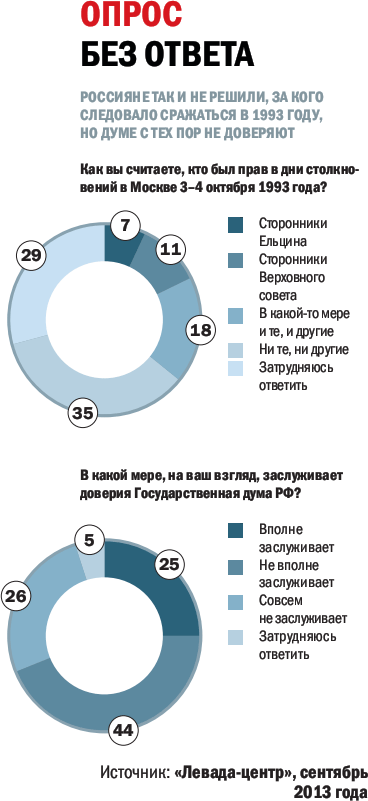20 лет назад страна чудом не свалилась в гражданскую войну: в октябре 1993 года противостояние президента и парламента вылилось в уличные столкновения и завершилось расстрелом Белого дома. Общество было расколото тогда, но остается расколотым и теперь: согласно соцопросам, россияне до сих пор расходятся в оценках минувших событий, а многие не в состоянии определиться, кто был прав, а кто виноват. В чем корень этой растерянности, разбирался "Огонек"

Парламент, расстрелянный во имя демократии, на долгие годы стал символом российской политики
Фото: AP
Как осень 1993 года повлияла на отношение россиян к политике и своей стране, "Огоньку" рассказал Алексей Левинсон, руководитель отдела социально-культурных исследований "Левада-центра"
— Эхо расстрела Белого дома еще различимо в общественном сознании? Или та осень прошла, чтобы больше не вспоминаться?
— Я бы для начала обратил внимание на слово "расстрел", которое вы употребили. Уже тогда, осенью 1993 года, стрельба по Белому дому некими комментаторами была названа именно так — расстрелом. Название закрепилось. Всем понятно, что это слово в нашем политическом словаре, помнящем трагические события советского периода, обладает негативной семантикой. Собственно говоря, с тех самых пор и считается, что на демократах лежит роковой грех многих генераций российской власти — грех расстрела. Конечно, дело не в одном слове. Проблема в том, что Ельцин и его команда, победив физически, в 1993 году проиграли морально. Это очень существенный момент, последствия которого дают о себе знать и сегодня. Моральная победа нужна для легитимации власти. У нас эта легитимация так и не появилась: с самого 1991 года в России не существует системы властных институтов, обладающих безусловным авторитетом. Попытки современного режима укрепить свою легитимность на федеральном и региональном уровнях имеют все то же происхождение. Наша власть, в общем, не может доказать свою легитимность даже самой себе. Поэтому порядка, настоящей, стратегической стабильности так и нет.
— Тяжело представить, чтобы масса россиян именно из-за далекого 1993-го ставила под сомнение легитимность нынешней власти...
— Вопрос о легитимности вообще никогда не ставится обществом в целом. Общество в целом, то большинство, которое во многом формирует результаты социологических опросов, принимает власть просто в силу того, что она власть. Но есть более высокоресурсные группы населения, для которых проблема легитимности, выбора справедливого государственного устройства традиционно важна. И эти группы населения сейчас — именно в силу катастрофы 1993 года — не могут считать ельцинский курс всецело справедливым и правильным, равно как и курс его преемников.
— Разве амнистия всем участникам октябрьских событий не является достаточной моральной реабилитацией победившей стороны?
— В чьих-то глазах является. А для других важно и то, что противостояние Верховного совета с президентом не вылилось в гражданскую войну. Заметим, однако: в сентябре 1993 года Ельцин совершил, как тогда говорили, государственный переворот, объявив Верховному совету, что тот не существует. Верховный совет объявил импичмент президенту. Возникла ситуация, от которой храни господь любую страну: когда две власти в стране называют друг друга незаконными, начинается гражданская война. У нас все ограничилось локальными схватками, и здесь, видимо, стоит отдать должное победителям, которые отказались от преследования идеологических оппонентов. Если бы развернулась охота на ведьм, последствия для общества были бы крайне тяжелыми. Но с другой стороны, сегодня уже очевидно, что скорая амнистия тем, кто возглавлял Верховный совет, имела и свой негативный эффект.
— Вы говорите о возрождении реваншистских настроений в прокоммунистическом лагере?
— Скорее о том, что урок, который эта амнистия преподавала общественному сознанию, оказался весьма двусмысленным. Конечно, насаждались ценности толерантности и послушания закону: раз Конституционный суд так решил, будем его слушаться и шагать по пути демократии. Но в то же время рушились все представления населения о правде, о том, что хорошо, а что плохо. Побежденные вышли на свободу с гордо поднятой головой, и вопрос о том, кто причинил России историческое зло, а кто добро, запутался окончательно. Более того, он не разрешен до сих пор. Я не думаю, что сейчас в России есть общественно значимые силы, которые могли бы вынести сколь-нибудь твердое решение по поводу того, кто был прав, а кто неправ в 1993 году. Результаты наших соцопросов на эту тему дают очень яркую картинку. Крайне малая доля населения разделяет позицию одной из сторон, подавляющее большинство россиян считает, что все были правы или все неправы, и значительная доля просто затрудняется ответить. Нет более красноречивого свидетельства об отказе общественного сознания от решения этого вопроса. При этом сам-то вопрос остается. Не получая ответа, он разъедает изнутри общественную мораль.
— Общественная мораль требует однозначного осуждения виновных?
— Она требует ориентиров, а их нет. Проблема морали в политике — это чуть ли не в первую голову проблема цели и средств. Понять, оправдывала ли цель примененные средства, очень сложно. Теперь очевидно, что победа Верховного совета могла обернуться для страны катастрофой. Но ход, который предпринял Ельцин — ради защиты демократии действовать недемократическим путем,— тоже ужасен. На подобных решениях спотыкались очень многие исторические деятели, и почти всегда такие решения имели роковые последствия для общества — то ли немедленные, то ли отдаленные.
— Помимо потери ориентиров и легитимности власти, о каких последствиях еще может идти речь?
— Применительно к России обратите внимание: в массовом сознании ценность парламентаризма была разрушена едва ли не напрочь. Парламент, избранный всенародно, был дискредитирован. Наши опросы 1993 года по горячим следам фиксировали: россияне нередко склонялись к мысли, что можно жить вообще без парламента. Ситуация усугублялась тем, что в массе постсоветских стран существовали конфликты между президентами и парламентами, при этом расклад, как правило, был такой: парламент представлял консервативное начало общества, а президент — прогрессивное или то, которое на тот момент казалось таким. Отсюда у передовых социальных групп рождалось весьма презрительное отношение к депутатам, которое в России довольно скоро стало преобладающим. Посмотрите, Думе вполне доверяет лишь четверть наших сограждан. Для страны в целом это, конечно, гигантский ущерб, фактически обесточенной оказалась одна из ветвей власти. В то же время именно такой Верховный Совет с его, как было тогда сказано, "агрессивно-послушным" большинством сформировал модель современной Госдумы. А раз так умалилась роль парламента, то президентская власть, возведенная Ельциным на большую высоту, только продолжала идти к авторитаризму. Еще Горбачева упрекали, что он забирает себе слишком много власти, а Ельцина уже открыто называли "царь Борис".
— Вероятно, приход к власти силовиков тоже может рассматриваться как следствие 1993 года, а именно дискредитация демократических путей решения проблем.
— Роль силового компонента в нашей политике и истории в 1993 году действительно очень возросла. Как мы все помним, в первые годы своего правления Ельцин задвинул спецслужбы очень далеко, однако начало чеченских войн уже означало их укрепление. 1993 год тоже показал, что в российской политике не могут обойтись без силовиков. Противостояние Верховного совета и президента разрешилось неконституционным, силовым путем. Это очень типично для нашей страны: все перевороты в России, за исключением разве что Февральской революции, осуществлялись с оружием в руках. К несчастью, Ельцин и демократы его поколения своими действиями послужили не только демократической, но и недемократической традиции нашей истории. Это во многом определило дальнейшее развитие России.
— Можно ли сказать, что тот компромисс с чуждыми принципами, на который демократам пришлось пойти в 1993 году, повлек за собой серию других компромиссов — 1996, 1999 года?..
— Именно так. Компромиссы бывают разные, общественное сознание осмысливает их довольно долго и нескоро дает им оценку. Впрочем, мемуары, интервью и фокус-группы с представителями элиты 1990-х свидетельствуют, что в те времена людям во власти приходилось постоянно изменять своим изначальным принципам, чтобы оставаться в политике. Это чрезвычайно злокачественный процесс. Ряд исторических поворотов ставил властителей тех лет в положения нравственно невыносимые, но раз уж они их вынесли, можно предположить, какой урон понесла их нравственность. Качество элит падало неуклонно, одна уступка недемократическим методам рождала другую. При этом заметьте: компромисса с оппонентами не было, был именно компромисс со своей совестью. Что касается первого варианта компромисса, связанного с умением договариваться и бескровно решать конфликты, то он у нас как был не в чести, так и остался. Идея о том, что такой компромисс — это не позор, а выход, причем выход не наихудший, а наилучший, абсолютно чужда нашим политикам. У нас место этой идеи занимают конспирологические воззрения, согласно которым пойти на компромисс с кем-то значит быть объегоренным. Так оно с 1993 года и повелось. Поэтому любая борьба у нас ведется "до победного конца", а не до первого соглашения. И демократического в этом, конечно, нет ничего.