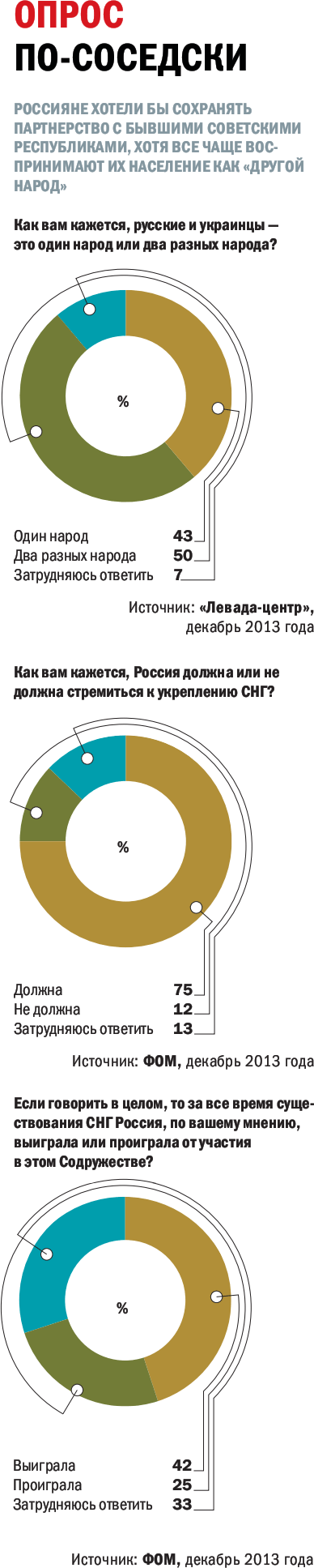2014 год пройдет для российской внешней политики под знаком евразийской интеграции. К весне должны быть готовы документы о преобразовании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана в Евразийский экономический союз — более глубокое интеграционное объединение. Предполагается, что оно заработает с 1 января 2015 года.

Заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС): президент РФ Путин (четвертый справа), президент Белоруссии Лукашенко (второй слева), президент Казахстана Назарбаев (третий слева), президент Киргизии Атамбаев (второй справа) и президент Украины Янукович (слева)
Фото: РИА НОВОСТИ
О евразийском проекте говорят очень много, но в разноголосице мнений, значительная часть которых, надо признать, скептические, трудно понять его истинное содержание, то, которое и делает евразийскую интеграцию процессом исторического значения вне зависимости от результата.
Россия самоопределяется. Таможенный союз и его дальнейшие ипостаси — не возрождение Советского Союза, как утверждают критики проекта, а как раз выяснение того, возможна ли и нужна ли какая-то общность на его бывшей территории. И зависит это прежде всего не от активности стратегических конкурентов или лояльности/нелояльности стран-соседей, а от самой России, от ее желания и готовности всерьез работать над созданием нового объединения. Желание и готовность, вопреки риторике, неочевидны.
Согласно мифологии, которая утвердилась сегодня в массовом сознании, на рубеже 1980-1990-х годов Российская Федерация стала едва ли не главной жертвой распада СССР. Ее, мол, предали номенклатурные этнократы из союзных республик, которые развалили великую страну, а заодно и отхватили часть исконного исторического ядра. На деле фактическим ликвидатором Советского Союза была РСФСР, и крест на едином государстве поставило именно решение рождавшегося российского политического класса уйти в самостоятельное плавание, а не активность националистов в Прибалтике, Грузии или на Украине. Но в нынешнем нашем представлении ответственность за случившееся лежит на каких-то чуждых силах, тогдашняя верхушка Российской Федерации воспринимается как навязанная извне. Хотя Борис Ельцин собирал миллионные митинги в свою поддержку, и Беловежские соглашения в декабре 1991 года Верховный Совет РСФСР, правомочность которого никто не оспаривал, ратифицировал подавляющим большинством, включая коммунистов. А вся сегодняшняя элита, в том числе и та часть, что играет на ностальгических настроениях, является продуктом создания именно нового Российского государства. Не исчезни СССР с его кадровой системой, едва ли кто-то из нынешних топ-политиков или бизнесменов мог рассчитывать на сопоставимое положение. Не говоря уже о том, что правящее поколение руководителей получило власть из рук тех, кто сознательно сыграл главную роль в упразднении "великого и могучего".
Этот парадокс самовосприятия, который расцвел пышным цветом в нулевые годы, ведет к основной дилемме десятых. Идеологически стремление к воссозданию единого постсоветского пространства в рамках общего возвращения России к статусу великой державы легитимировано. Но при этом Россия как "новое независимое государство" (кто забыл — так было принято называть все страны, появившиеся на месте бывшего СССР), которое прошло процесс тяжелого становления за 20 лет, стало на деле развитием той мысли, что определила распад СССР, то есть "сбрасывания балласта". В конце 80-х многие прогрессисты доказывали, что Россия прекрасно проживет без остальных республик, которые высасывают ее соки. В принципе, действительно прожила — ресурсный потенциал позволил преодолеть развал общего хозяйства и деградацию экономики, другим пришлось много хуже. И какие бы аргументы в пользу воссоздания общего экономического поля ни приводились, направляющей идеей российского руководства во все большей степени была самодостаточность, снижение взаимозависимости, которая сохранялась от прежней системы Союза ССР. Не случайно шаги по расширению или восстановлению сферы влияния, как правило, носили геополитический характер, и лишь во вторую очередь диктовались экономической необходимостью.
Таможенный союз, надо отдать должное проекту,— попытка сформулировать задачи на будущее современным экономическим языком. Дается с трудом. Ведь подтекст все равно политический, а чем больше его пытаются убрать, тем сложнее аргументировать экономический смысл именно такого объединения.
Для России евразийская интеграция, имевшая изначально политико-экономическое содержание, превратилась в часть основной отечественной дискуссии — о новой идентичности. Исчерпанность прежней повестки дня, которая представляла собой эклектичное сочетание советских, постсоветских и несоветских элементов, все более очевидна. А новая парадигма еще только возникает, пока непонятно, на какой основе.
В евразийском проекте Россия определяет свои границы. Не государственные или административные, а культурно-психологические. Тот ареал, который она и дальше будет считать "своим", особенным, не относящимся к полноценной загранице. Этот ареал не совпадает с контурами бывшего СССР. Часть постсоветских стран уходят с российской орбиты — и политически, и ментально. Скажем, Туркмения давно исчезла с нашего горизонта, Узбекистан и Азербайджан, оставаясь связаны с Россией множеством уз, прежде всего человеческих, не намерены вступать с ней в институциональные отношения. Грузия отошла от откровенно антироссийского курса времен Саакашвили, однако черта, проведенная войной 2008 года, оставляет ее в стороне от российских проектов. Но это все выбор стран-соседей, с которым, если он сделан всерьез и сознательно (а не так лукаво и невнятно, как в Киеве), Москва вынуждена согласиться.
В отношении же стран, которые либо не могут определиться, либо склоняются к России, выбор приходится делать уже ей. И это не только и не столько геополитическое решение. От того, сохранится ли в нашем ареале Центральная Азия или Украина, зависит и российская самоидентификация, что будет в ней доминировать. Европейское культурное наследие? Имперские устремления, тоже, кстати, по сути, европейские? Некое евразийское восприятие, пока не сформулированное? А может быть, националистические настроения с привкусом изоляционизма? Ведь уже сегодня официальный приоритет — вовлечение в евразийскую интеграцию большего числа партнеров, в том числе, например, Киргизии, которая обсуждает дорожную карту присоединения, контрастирует с мнением все большего числа россиян, которые не считают выходцев из Центральной Азии частью "своего" мира.
Когда Россия определится со своим ареалом, она закроется по его контуру. На этом закончится постсоветское межвременье, когда отношения бывших союзных республик были не совсем такими, как отношения обычных государств. Визы, барьеры, тарифы и прочее — уже автоматическое и неизбежное следствие. И в этом стоит отдавать себе отчет тем, кто раздумывает, присоединяться ли к российским начинаниям.
Сейчас модно вспоминать Солженицына, его работы начала 90-х. Тогда их воспринимали как любопытную экзотику, а сейчас эти мотивы — про сбережение человека, местное самоуправление, непригодность либеральных принципов и пр. — все громче звучат в речах первого лица, который в минувшем месяце официально провозгласил консерватизм государственной идеологией. Писатель в ту пору четко обрисовал контуры ареала, который он считал настоящей Россией, помимо официальных границ в него входили Белоруссия, Украина и север Казахстана. Остальное — плоды азарта строителей империи. Если исходить из такого взгляда, то сражаться осталось только за Украину, остальное ненужно, в особенности "чуждая" Центральная Азия. Но как тогда быть с "приоритетом на весь XXI век", каковым, по словам Владимира Путина, является поворот в Азию? И что делать со странами, как Армения или та же Киргизия, которые объективно нуждаются в России? Готова ли Москва сегодня отвернуться от них, как она сделала это в декабре 1991-го, фактически поставив большинство республик перед фактом — свободны, хотите того или нет.
Ответов на эти вопросы нет. У нас часто забывают о том, что интеграция — это высшая форма межгосударственных отношений, самая насыщенная, но и самая сложная, рискованная. Враждовать проще, равно как и оставаться нейтральными партнерами на дистанции. Интеграция способна мультиплицировать возможности, но требует болезненных уступок и ожесточенного торга. Это, впрочем, хоть и важная, но технология. Перед Россией стоит гораздо более масштабный вопрос — кем и какими мы хотим видеть себя в будущем. От этого зависит судьба интеграционных проектов.