Подлог как прием
Анна Наринская о «Вознесенском» Игоря Вирабова
Андрей Андреевич Вознесенский умер 1 июня 2010 года в возрасте семидесяти семи лет. Он прожил невероятно яркую, разнообразную жизнь, был знаком и даже дружен с многими, кого можно сейчас назвать "символами" XX века в принципе (от Пикассо до Жаклин Кеннеди) и русской культуры отдельно (от Солоухина до Гребенщикова). Да и сам он, безусловно, был и остается таким "символом" — уж во всяком случае символом важнейшей для нашей истории эпохи шестидесятых. Дух тех лет нашел практически идеальное выражение в его стихах, которые, по формулировке Григория Дашевского, «бесшабашно соединяли несоединимое — научно-техническую революцию, Лоллобриджид, Ленина, первую недолгую самоуверенность шестидесятников: "Нас будут слушать, потому что наши мозги нужны" и их послеоттепельную растерянность: "О чем, мой серый, на ветру // Ты плачешь белому Владимиру? // Я этих нот не подберу. // Я деградирую"».
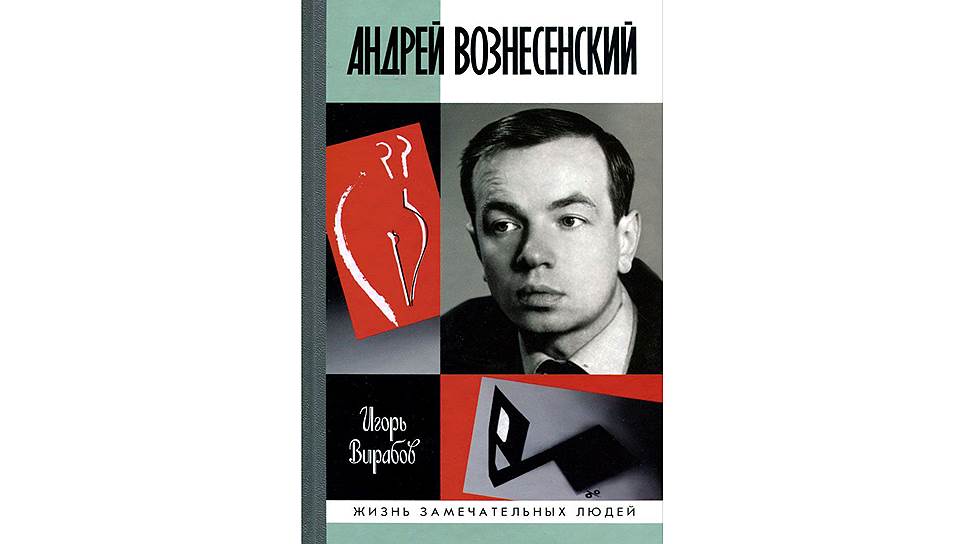
При этом поэзия и собственно фигура Андрея Вознесенского всегда находились в зоне спорности, несоглашенности. Его выступления собирали толпы, его сборники разлетались мгновенно, песни на его стихи неизменно выделялись из общего эстрадного потока, но интеллектуалы и того, и последующих времен к его стихам относились с высокомерием и даже неприятием, как чему-то массовому, спекулятивному и, главное, поверхностному: "Вознесенский был наследником футуризма — но без его силы, без его жестокости, без его трагизма". И ровно так же те, кто советскую власть не принимал вовсе (и, соответственно, те, чье мнение впоследствии стало "весомым"), считали Вознесенского, практически не вылезавшего из тогдашнего телевизора, бесконечно ездившего заграницу и даже получившего в конце застойных семидесятых Госпремию — несмотря на то, что он никогда не воспевал впрямую советскую власть,— соглашательским, официальным и вообще советским.
Существует не один способ написать о таком человеке, о такой "фигуре несогласия" — так что в связи с этим можно даже устроить игру в вопросы и ответы, практически викторину. Вопрос: что самое худшее можно сделать по отношению к этому герою, к его поэзии, к литературе и памяти вообще? Ответ: сделать судьбу и творчество этого человека, этого поэта, этого мужчины площадкой для выяснения собственных отношений с теперешними идеологическим противниками, причем не давая себе труда подняться уровнем выше, чем читательские комментарии к колонкам на каком-нибудь сайте средней руки. Ну вот, к примеру (только не будем — хотя это непросто — ахать и охать по поводу смысла сказанного, отметим лишь стиль и метод): "... советским танкам в Праге отвели мистическую роль самого знакового события эпохи. С точки зрения сухой статистики — в 1968 году были события кровожаднее и лицемернее. Спустя каких-нибудь полвека в Киеве — кто мог подумать о таком в 1968-м! — военизированные революцьонеры (орфография авторская — А. Н.) перебьют и покалечат много больше народу, чем тогда "оккупанты" в Чехословакии".
Хотя вообще-то нет. Это еще не самое худшее, что можно себе представить. Самое худшее — это когда соображения такого рода высказываются языком жеманным, нарочито приподнятым, захлебывающимся, как бы приспосабливающимся к поэтическому языку героя, но на выходе просто слащавым. ("Звуки-мумуки слетали с губ малыша лепестками", "О эти видения предпубертатного периода!", "Легкий штрих — и космос смысла", "Беременный томительной тоской XX век несся за чудом веселым титаником", "В крепдешиновом небе Кипра чайки распахивались, как декольте"). Так вот — это ровно то, что предлагает нам Игорь Вирабов в своем жизнеописании Андрея Вознесенского.
Забавно, конечно, как слова (даже так бездарно подобранные, как у Вирабова) мстят тому, кто пытается ими манипулировать. На 337-й странице (всего их почти 700) своей книги автор пишет: "Понять происходившее в те годы невозможно без контекста". При этом если есть в его труде какое-то главное свойство, то это как раз полное и именно что дезинформирующее читателя отсутствие контекста.
Самый простой пример — то, как автор пишет о бесконечных зарубежных поездках своего героя в 60-70-х. Он подает их как дело совершенно нормальное, так что отказ руководства направить литератора в "капстрану" оказывается чем-то из ряда вон выходящим, подлинной трагедией, постигшей героя. Потому что все остальные-то, вероятно, в семидесятых только и делали, что разъезжали по Парижам. А железный занавес? Нет, это явно наветы клеветников. Так что и упоминать не стоит. Вирабов и не упоминает.
Изображать диссидентство как тусовки в американском посольстве и безопасные и тщеславные игры с неповоротливой и ни на что не способной властью — это самая настоящая подлость и есть
Но важнее даже другое — Игорь Вирабов все же пишет о поэте, о литературе. И вот он умудряется говорить о словесности 60-70-80-х годов, вообще не упоминая литературы неподцензурной. Бродский к концу книги все-таки всплывает — в качестве злого приземленного завистника, при том что и суд над ним, и его ссылка остаются незамеченными. Но о том, что в это время в России жили и писали поэты и писатели, которых вообще, совсем не печатали (скажем, Красовицкий, Рейн, Горбовский, Аронзон, Горбаневская, а из прозаиков ну хотя бы Венедикт Ерофеев, а позже Саша Соколов) и которые, в сущности, и составляют тело русской литературы того времени,— об этом здесь вообще речи нет. Андрей Андреевич Вознесенский — люби его или нет — вообще-то заслужил, чтобы его обсуждали в полном контексте его эпохи, но автор его биографии этой чести ему не оказывает.
Отсутствие контекста, на которое так жалуется Игорь Вирабов, говоря о напраслине, возводимой на советскую власть (в то время как Америке, по его словам, все такое же сходит с рук), практически всегда оборачивается ложью — и ею в итоге пронизана вся эта книга,— но иногда обращается прямой подлостью.
"Никак не объяснить парадоксов семидесятых. <...> Глушили вражеские радиостанции — но любой мало-мальский диссидент отлично знал: его не заглушить. И счастье диссидентское было — вечеринки в американском посольстве, знак избранности, мода, отчасти бравада. И ритуал уже сложился: обращаешься с каким-то диссидентским протестом к дуболомным властям — и, не дожидаясь ответа, тут же передаешь за кордон через своих людей, как тебя здесь третируют, на те же радиостанции, которые глушили".
Я, кстати, ничего не знала про вечеринки с участием диссидентов в американском посольстве в семидесятые, но стала выяснять и поняла — действительно были. Но без всяких выяснений я знала: Анатолий Марченко, Юрий Галансков, Александр Гинзбург, Габриэль Суперфин, Сергей Ковалев, Андрей Амальрик, Семен Глузман, Татьяна Осипова — они и многие другие диссиденты сидели в эти семидесятые за свои убеждения и за лучшее, как они считали, будущее своей страны в самой настоящей тюрьме или лагере, а некоторые прямо там и умерли. И изображать диссидентство как тусовки в американском посольстве и безопасные и тщеславные игры с неповоротливой и ни на что не способной властью — это самая настоящая подлость и есть.
И вот тут хочется спросить. Ну автор, который все это написал,— он такой. Каждый пишет как он дышит — это еще во времена Андрея Вознесенского заметили. Но этот опус — он внесен в короткий список премии "Большая книга", а туда тексты отбирают эксперты, литературоведы и критики, вроде бы ценящие слово и много чего на своем веку прочитавшие. И эту общую ложь, и эту конкретную подлость, приправленную "крепдешиновыми небесами" и убойными по силе ума соображениями, типа того, что "философ Ханна Арендт положила жизнь на то, чтобы как-то подретушировать хвост нацистского прошлого, тянувшийся за ее возлюбленным Хайдеггером, и поэтому придумала приравнять Советский Союз к гитлеровской Германии", вот это вот все они туда выдвинули — зачем? Отбирая этот текст в число лучших, вышедших в России за год, они хотели сказать — что? Хотели ведь они что-то сказать, иначе просто идиотизм получается.
Хотя, может быть, они хотели сказать как раз то, что сказалось,— и это и есть диагноз состояния умов и писательства в нашей стране. А я экспертов "Большой книги" просто недооцениваю.
Игорь Вирабов. Андрей Вознесенский. М.: Молодая гвардия, 2015


