Расплавленному верить
Игорь Гулин о "Лосином острове" Василия Бородина
В издательстве "Новое литературное обозрение" вышла первая большая книга Василия Бородина — одного из самых одухотворенных и причудливых современных русских поэтов
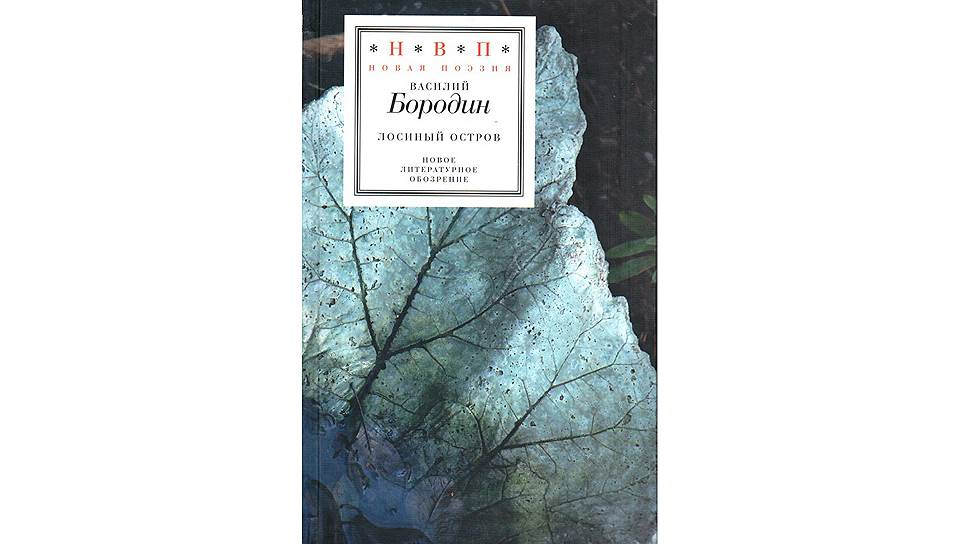
До "Лосиного острова" много пишущий Бородин выпустил четыре сборника. Все это время он воспринимался в роли, скажем так, "старшего молодого поэта". Со многими авторами своего поколения Бородин делил отчетливо инфантильную эстетику, позицию незнающего, взгляд снизу вверх. Он и не покинул детский мир смещенных пропорций, но с новой книгой видно, что растерянность оставила его. Среди значительных авторов поколения тридцатилетних Бородин — чуть ли не единственный взрослый поэт. Взрослый — в смысле не озабоченный серьезными, достойными темами, но положительно уверенный в существовании окружающего мира и своей перед ним ответственности.
Это может показаться парадоксальным высказыванием. На первый взгляд, стихи Бородина выглядят как абсурдистские (каким бы устаревшим ни казалось сейчас это слово). Слова в них живут странной жизнью, значат не совсем то, к чему мы привыкли, вступают в будто бы произвольные связи:
подземные разговоры / медведки и землеройки / частично опубликованы / полевкой на полях пОля: // — хорошо ли миг-глаз глуп? / — хорошо? я-то... / — хорошо-то прожить в углу / — только кто споет о // ...ширящееся как на гончарном / небо круге — кругОм: / хорошо миг-глаз глуп — / и не о другом
Так, у обэриутов предметы, имена собственные, местоимения теряли почву под ногами, всплывали в вакуум в предсмертном распаде языка. И здесь же сразу видно отличие: у Бородина язык не распадается в катастрофе, он плавится в новое состояние. Эта переплавка идет через пение. Те, кто хоть раз слышал (вживую или в записи), как Бородин читает свои вещи, знают: это совсем не похоже на обычную артикуляцию стихов. Вместо того — то ли шаманское камлание, то ли блюзовый напев. Язык Бородина будто бы существует в голосе, а не в тексте, подчиняется дрожанию воздуха.
Он берет обязательство узнать себя в любой мыши, олене, дожде, поэте Саути, философе Зеноне
Именно здесь искушение: заподозрить эти стихи в произвольности, легковесности. Это не так: страсть певца в текстах Бородина возносит слова и вещи в воздух, искупает их силу тяжести. Однако там — на свету — они образовывают новые структуры, раскрываются цветами-кристаллами смысла. Здесь Бородин близок к любимому им Паулю Целану, но у того — еще один вариант катастрофического письма. У Бородина же существа и явления обречены, но обречены прежде всего на невидимое им спасение:
брат Снег снял фильм, доминиканец / брат Дождь — пошел, он францисканец / пошел / со съемочной площадки / увидел рыжую лошадку / и говорит: / а крыша где? / и оба ходят по воде
Если продолжить ряд определений от противного, здесь легко увидеть поэзию без субъекта, в которой автор отдает право говорить природе, языку, животным — другому и другим. Это тоже не так. В текстах Бородина воля автора присутствует отчетливее, чем в иных исповедальных текстах. Он не хитер, напротив — прямодушен, откровенен. Но эта воля — в наблюдении. Каждый взгляд здесь — это акт внимания, тревоги и заботы.
Такого внимания требуют и сами стихи Бородина: слишком легко увлечься их веселой легкостью, мелодикой и не заметить трудной работы, этической позиции. Речь вот о чем: вознесенное пением в воздух, каждое понятие и каждая тварь здесь получает возможность события. Они оказываются в пространстве новой физики, готовыми на поворот и превращение, к переходу в новое, невиданное качество.
В этом превращении, которое может быть светлым и страшным, поэт остается при словах и вещах в роли небольшого внимательного ангела. Он берет обязательство разделить судьбу каждого из них — узнать себя в любой мыши, олене, дожде, поэте Саути, философе Зеноне, любом странном персонаже:
советский скульптор / осознает / что он койот / мочится на скульптуры / грызет себя / надо к нему зайти / надо к нему зайти / советский врач / осознает / что он грач / ходит по газону / быстрым скворцом / бьется в припадке / вниз лицом / надо к нему зайти / надо к нему зайти / советский школьник / осознает / что он дольник / и берет тетрадь / воспитывать в себе ямб / господи это я
В этой готовности измениться, спастись, таится и другая. Называть ее смертью в таком светлом мире было бы глупо, просто любое существо и вещество здесь готово уйти. Бородин не держит их в напряжении, как некоторые поэты цепляются за слова. Наоборот, он готов — как луч, ручей и другие любимые им текучие природные линии — последовать за ними и туда. Со страшной, смиренной легкостью, с едва заметным, невесомым героизмом:
сшили из дерюги / лицо земли, и подруги / по ней прошли / посмотрели на цветы: / — это вы цветы / или мы цветы? / посмотрели на круговорот / стрижей, дней и, наоборот, / дней, стрижей, / стали старые, у кротов / ночью спросили: / — как там, в земле, готов / ход на ту сторону нам-цветам? / холодно там?
Василий Бородин. Лосиный остров. М.: НЛО, 2015

