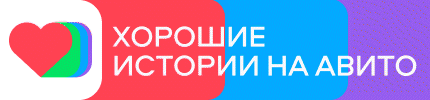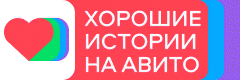Глаза смотрящего
Мария Степанова о том, что мы видим, когда смотрим на старые снимки
Готовящаяся книга поэта, эссеиста и постоянного автора Weekend Марии Степановой посвящена семейной истории, механизмам частной и коллективной памяти и тому, что доносит до нас (и чего нас лишает) сохраняющая эту память фотография. С разрешения автора мы публикуем главу из этой книги.
Есть глубокая несправедливость в том, что люди, как и их портреты, никуда не могут деваться от первого, базового неравенства: деления на интересное и неинтересное, притягательное и не очень. С тиранией выбора, который всегда стоит на стороне красивого и занимательного (в ущерб всему, что не умеет претендовать на наше внимание и остается на неосвещенной стороне этого мира), подспудно солидарны все, и в первую очередь наши тела с их прагматической повесткой. В книгах, где говорится о том, как работает человеческий мозг и как воспринимает искусство, есть некоторое количество печальных очевидностей. Наши суждения о прекрасном/привлекательном определяются ненавязчивым присутствием биологической догмы, логикой выживания, заставляющей выбирать из предложенного набора то, что обещает здоровье, плодовитость, способность сопротивляться болезни. Ни воспитание, ни возраст не добавляют ничего нового: трехмесячные младенцы тоже солидарно голосуют за истинные ценности красоты, здоровья и симметрии.
Кажется, что подспудно этот выбор подразумевает и что-то другое, большее — то, на что боишься опереться и о чем не можешь не задумываться. Выясняя, что объясняет и определяет привлекательность человеческого лица, по ходу одного из многочисленных опытов психолог начинает искажать пропорции, предлагая своим респондентам выбирать между естественным и преувеличенным, нормативным и гротескным. "Когда он видоизменял черты обычного приятного лица — делал скулы повыше, подбородок меньше, глаза больше, уменьшал расстояние между носом и ртом,— участники эксперимента считали, что лицо становится еще привлекательней". Это важная точка. Над общим законом, утверждающим приятность как залог фертильности и норму как страховку от неприятностей, стоит еще один, отменяющий все вышесказанное. Он требует от нас неестественного отбора, оставляющего только сверхчеловеческое, оно же не вполне человечное. Он хочет, чтобы человек превысил собственные физические возможности, пройдя анфиладу искажений, сообщающих ему черты божественности или автопародии.
Как тут быть тем, кто составляет безусловное большинство,— популяции просто-людей, два глаза, нос и рот, ничего особенного? Красота хочет от нас трансгрессии, искажения, преувеличения, крыльев или котурнов. Природа ищет возможности продолжать, примириться с girl next door и ее многообещающей симпатичностью, с ее готовностью к череде детей, внуков и правнуков. Между тем и этим размещается зона частного выбора, место для меня, смотрящего, моей верности идеалу и способности к компромиссу. Так устроено дело в мире живых; но когда речь идет об ушедших, все еще жестче и бесповоротней.

Фото: DIOMEDIA / imageBROKER RF
Тут и речи нет о компромиссах, и конкуренция куда как высока: столько мертвых душ претендует на то, чтобы побыть на глазах, задержаться в оперативной памяти. Тысячи бесцветных фотографий, рассеянных по миру,— что-то вроде невольничьего рынка, где пресыщенный вкус выбирает себе игрушку. Здесь недостаточно обычной привлекательности, от модели требуется другое. Мужчины с мощными челюстями, красивые женщины в шляпках, дети в пеленках и кружевах уходят во тьму невнимания так же покорно, как и в небытие. Но некоторые остаются. Кто и почему?
Не так давно по интернету ходила история о фотоархиве семейства Раст. Русская собирательница купила на Шри-Ланке коробку фотографий, которые чем-то ее поразили, да так, что через год она вернулась, чтобы выкупить весь архив, занялась поисками, нашла следы этой исчезнувшей — к концу века никого не осталось в живых — семьи и сделала все, чтобы подарить им то странное бессмертие, которое иногда достается предметам, потерявшим хозяев. Кажется, у нее получилось.
Но что именно было в этих фотографиях? Что так бесповоротно выделило их из общего, ничего-особенного множества? Видимо, то же, что отличает музейную вещь от ее заурядных товарок: непростое качество, которое дает ей право на преимущественное внимание. В архиве Джулиана Раста, который был профессиональным фотографом, нет снимков, что ограничивались бы голой функцией, утилитарным сохранением сущего. Они намагничены собственным качеством, дающим изображению волшебный блеск экспоната. Семья в снегу под еловыми лапами, ребенок в санках и ручной олененок, купальщицы, наездницы, овчарки выглядят как film stills, и зритель ждет продолжения истории, новых кадров и знания о том, что с героями сталось.
В этом есть, как подумаешь, заведомая асимметрия — не меньшая, чем в существовании наследной аристократии или, скажем, изящных искусств, которые проходят без билета в двери, закрытые для остальных. Мы любим редкостное и особенное, выпадающее из рядов (или создающее свой собственный ряд, привилегированный партер, где ждут своего часа хорошие фотографии, занимательные истории, те, кто умеет и знает как, и то, что у них получается). Но вот какая странность: иногда интересными, то есть извлеченными из рядов, оказываются и фотографии, сделанные просто так, мимо качества, без намека на профессионализм. Какое свойство, какая особенность делает их не-отразимыми, лишает нас той воли к сопротивлению, что только и помогает не замечать молчаливое присутствие прошлого, которое не поддается использованию как лампа или графин и глазами глядит из мусорных ящиков и с антикварных прилавков?

Фото: The Boston Globe via Getty Images
Возможно, дело как раз во внезапной готовности быть ничем, которой вовсе не знал в себе человек, позировавший камере сто лет назад. Ею в полной мере обладают пустующие места: безлюдные сады, покинутые дома, комнаты без хозяев, эдакие нули полезного пространства, в которые хочется смотреть неотрывно, как в колодец. Можно считать, что они, как запасные двери несбывшегося, которые хочется видеть открытыми, предлагают смотрящему войти и остаться. Но входить незачем: смысл отношений между мною и изображением сводится к чистому подглядыванию, словно удалось застать реальность без галстука, в ее утреннем беспорядке, пока она сама себя не замечает и не контролирует. Работает линза удвоенного, отраженного друг в друге одиночества с его солитарными радостями: я вижу то, что не умеет увидеть ни себя, ни меня.
В каком-то смысле это может относиться и к фотографиям, населенным людьми. Такое ощущение, что моя чувствительность не вполне готова к прямому eye contact с прошлым и предпочитает замочную скважину вуайера: смотрящему спокойней, когда его не замечают и он может следить с безопасного расстояния за тем, что происходит с другими. Честные фронтальные снимки на память имеют свойство в эту самую память не врезаться: в них слишком мало оставлено для соучастия и еще меньше — для воображения. Те, кто фотографируется, и те, кому фотография адресована, и так знают, с кем имеют дело; изображение ограничено собственной поверхностью/поверхностностью, оно заведомо функционально, и его смысл исчезает вместе с функцией — вместе с теми, кто мог бы вспомнить.
Не так с отходами производства — картинками, не оправдавшими в свое время надежд фотографа, и поэтому не вполне состоявшимися. Собака, размытая собственным бегом и кажущаяся бесконечной, чьи-то ноги в туфлях на мокром тротуаре, случайный прохожий, попавший в объектив, во времена бумажных отпечатков отсеивались и уничтожались первыми. Именно они навощены сейчас специальной прелестью того, что нам (и никому) не предназначено. Это ничье, а значит, мое: мгновения, выжившие по ошибке, освобожденные от всякой привязи, украденные жизнью у себя самой. Эти изображения людей предельно безличны, именно этим и хороши; они снимают со зрителя груз преемственности, исторической памяти, совести и долга перед умершими — и предлагают взамен образцы, последовательный каталог бывшего и будущего, чем случайнее, тем верней. Здесь действуют не Иван Иванович с Марьей Петровной, а условные единицы, он-и-она, она-и-она, свет-и-никого. Свобода от смысла дает шанс добавить сюда свой собственный; свобода истолкования делает картинку зеркалом, и оно купает в своем квадратном пруду любую предложенную версию. Photo trouvee, эти найденные объекты, хороши именно готовностью стать объектом, устранив для этого устаревшую чужую субъектность, похоронить своих мертвецов — и того, кто снимал, и того, кто снимался.
Похожее чувство вызывают фотографии, не нуждающиеся в собеседнике — не желающие меня замечать. Это своего рода репетиция небытия, жизни без нас, времени, когда в комнату уже нельзя будет войти. Семья занята чаепитием, дети играют в шахматы, генерал склонился над картой, продавщица раскладывает пирожные; так реализуется старинное, неистребимое желание заглянуть во все окна многоквартирного дома, допросить волшебный горшочек о том, что у кого на обед. Смысл этой мечты ведь в том, чтобы оказаться на время не-собой, а кем-то совершенно другим, совсем на себя непохожим. Большинство старых фотографий здесь бессильны; все, что они могут — смотреть мне в глаза и настаивать на своем: на себе, я это я, явь это явь. Их непроницаемая самость не оставляет никаких лазеек для моей. Для того чтобы вернуть изображению жизнь, смотрящий должен оказаться третьим лишним, а не долгожданным суженым. Незнакомая женщина, выходящая из моря, улыбаясь в объектив, оказывается на дне коробки с ненужными вещами; у ее сестры, сидящей на песке и глядящей не на меня (с надеждой на узнавание), а на воду (и только вода знает, с чем приходила) есть шанс побыть среди живых.

Фото: Zuma Press
И это тоже несправедливо — как вообще несправедлива диктатура смотрящего с его невесть откуда взявшимися запросами. Если вспомнить, у слова есть второе, не самое очевидное значение. На языке тюрьмы и зоны, которым пользуется существенная часть тех, кто вообще говорит по-русски, смотрящий — тот, кто определяет правила и следит за их выполнением.
Примерно так же можно было бы описать отношения между читателем и текстом, зрителем и пленкой. Они промежуточная инстанция власти, что-то вроде билетеров в музейных залах оперативной памяти. От них зависят и правила, и то, как они исполняются. И при этом смотрящий — чего уж там — судья неправедный. Его закон и его выбор не божеские, а человеческие, пуще того, воровские. Его вкусовое суждение — право сильного среди бессильных, живого среди неживых (и заведомо лишенных всяческих прав).
Если у меня есть внутренний образец того, как можно и нужно обращаться с чужими вещами, это В. Г. Зебальд, который всю жизнь писал книги, где изображения оказываются необходимой составляющей текста — его опорной конструкцией. По большей части это именно фотографии или их заменители: черно-белые фотокопии входных билетов, картин или документов.
Эти снимки легко можно назвать никакими, анонимными в своей молчаливой невыразительности. Это скорей знаки присутствия, чем что-то мало-мальски похожее на сообщение, письмо на предъявителя. Они оставляют ощущение легкой расфокусированности, недопроявленности, у них нет очевидного повода для того, чтобы быть здесь, на книжной странице, и твердый клювик пунктума никогда не пробивает поверхность изображения. Старинные люди в дверях и пейзажах, прямостоящая древесная пехота, какие-то здания и ворота совсем не пытаются быть интересными, привлечь к себе капризное внимание смотрящего. Они немы в своем отчужденном достоинстве, и именно немота совершившегося заставляет признать их существующими.
Текст, занятый спасением утопающих, относится к ним с бережным уважением равного. От них не требуется: означать, олицетворять, соблазнять, быть занятными, быть показательными ("типичный крестьянский костюм середины века"), быть послами собственной истории или иллюстрациями к чужой правде. С них совлечена, как покров, задача нравиться, и то, что остается в результате — безмолвное присутствие забытых. Они фонарями стоят на границе между было и убыло, освещая оставшееся расстояние, ничего не сообщая и ничем не делясь. В мире, где совокупный объем бывшего, как море, омывает узкую полоску сегодняшнего дня, Зебальд — своего рода царь-освободитель прошлого. Он избавляет его от диктатуры интересного, от страсти к иерархии, от чужого, всегда случайного, выбора, от необходимости быть игрушкой.

Фото: Gamma-Keystone via Getty Images
Чего нет в книгах Зебальда, целиком и полностью обращенных к памяти и механизмам припоминания, — это фотографий своих. В текстах, где последовательно и подробно документируется все, включая траекторию авторских перемещений по венским улицам (по Фердинандштрассе, потом через Шведенбрюкке), упоминаются мать, дед, жена, некоторое количество родственников, но нет ни одной страницы, где они делались бы видимыми. В спасательной лодке, управляемой автором, этих людей нет — они существуют в режиме сноски, где-то на том берегу. Максимум допустимого присутствия — это, например, страница календаря, где дед записал рецепт домашнего шнапса; мне иногда кажется, что там, среди фотографий, запрятаны как иголка в сене несколько секретных, ключевых — и что все написанное Зебальдом ему нужно, чтобы предоставить им сколько-то жизненного пространства. Если и так, он никогда не проговаривается; его рассказ восстанавливает равенство, убирая любые горизонтальные связи, и родные стоят перед объективом объективности на общих словах, безмолвно, как и все остальные.
Зато там есть зоны небытия: что-то вроде мелового круга, очерченного автором вокруг себя, защищающего от чужого взгляда то, что слишком близко к коже. Это было бы очень понятно: любой рассказ подразумевает купюры, умолчания, вещи, недоступные для экспонирования (и, возможно, именно эти пробелы — что-то вроде форточек, за счет которых сюжет можно проветрить и продышаться). Нежелание обнажать наготу собственной истории, выкладывать на бумагу все до копейки — вещь слишком понятная; и наше знание, проверенное всеми авторитетами, говорит: если слишком долго вглядываться в бабушкин портрет, от бабушки ничего не останется.
Так, да не так; любая вещь растворяется, как слово от многократного повторения, если на нее слишком заглядываться. Детективная история об исчезнувшей бабушке на самом деле — тоже рассказ о смотрящем и его неутолимой требовательности. То, чего мы ждем от фотографий любимых, нелюбящих и ушедших, настолько преувеличенно, что серебру и свету не справиться с этой задачей. Там, где курортный кодак честно делает свою работу — предъявляет взгляду вчерашний июль — взгляд тоже соблюдает неписаную конвенцию и не копает слишком глубоко. Ему достаточно беглого напоминания — платок сдуло ветром, платье пузырится, брови подняты,— чтобы память, как умная собака, принесла и положила брошенный тапок. Но когда речь идет о невосполнимом, о неведомом (юная прабабушка в ее гимназическом платье) или о потерянном (мама тогда и всегда — мама, которой тут больше нет), взгляд врывается в поверхность фотографии, как заступ, скребет железной ложкой по стенкам, пытаясь выдавить еще хоть каплю живого. От этих фотографий мы хотим всей полноты присутствия здесь и сейчас — и то, что они предлагают взамен, кажется черной дырой, пустотой последнего неответа.
Фотографии тех, кого мы знаем или знали, обращаются к нам прямо и по имени. Их ценность может быть любой; это валюта, которая обеспечена нашей способностью к узнаванию и негласным пактом между людьми и изображениями, который сводится к тому, что все, что еще можно вспомнить и опознать, сохраняет вес. К этой несложной договоренности можно относиться небрежно (и мы делаем это каждый день, списывая в архив сегодняшние известия с их визуальным шлаком), пока большая честь знаемого не становится прошлым и не начинает нуждаться в нас, как в руке, за которую можно ухватиться. Сюда же относятся — и сохраняют настойчивую интенсивность — изображения тех, кого так или иначе знают все, знакомых мертвецов, как называет их Пушкин. Сейчас их больше, чем когда-нибудь, и фотографии кинозвезд, авторов и политиков оклеивают изнутри наши черепные коробки, как сундучки стародавних нянь.