Композитор имени поэта
Анна Наринская о «Шуме времени» Джулиана Барнса
Нельзя сказать, что это "роман о Дмитрии Шостаковиче". Фигура великого композитора не просто стоит в центре этого текста, не просто там "описывается", а совершенно его наполняет и составляет. Технически это внутренний монолог, изложенный в третьем лице. Идейно — это попытка нащупать суть компромисса даже не как явления, а как состояния души.
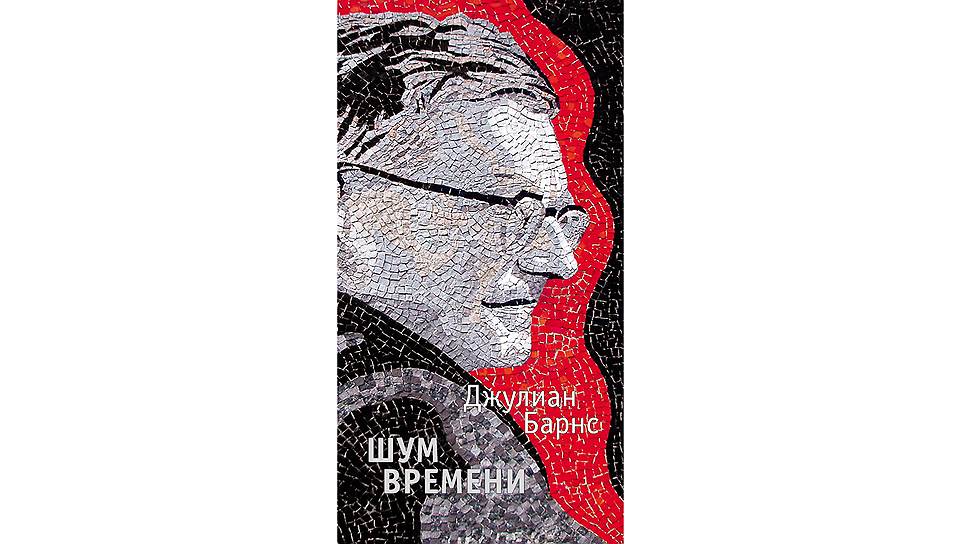
Вот он — гений двадцатого века, никак не укладывающийся в рамки "советского", когда-то оказавшийся на грани репрессий, но выживший, премированный, превознесенный и как будто встроившийся в режим. Это ровно тот случай, когда кажется, что "оно того стоило" — не в человеческом, а во вселенском смысле. Все это соглашательство, заседание в президиумах, вступление в партию и подписывание клеймящих "врагов" писем — все это стоило музыки, которая иначе, возможно, просто физически не могла бы быть написана.
Стоило ли? Джулиан Барнс, разумеется, не дает в своем вымышленном, хоть и опирающемся на множество документов повествовании ответа на этот неотвечаемый вопрос, но выделяет, подчеркивает, катализирует его, называя роман заглавием автобиографической прозы Мандельштама. И дело не только и даже меньше всего в том, что, как пишет сам Барнс в примечаниях, "это произведение О.Э. Мандельштама в значительной степени посвящено музыке".
Для "знающего" (да, здесь приходится дать это необходимое определение) читателя это название со всем ореолом связанных с ним смыслов и собственно текст составляют идеальный литературный конфликт.
Два гения. Один — сделавший шаг согласия: после травли, которой Шостакович подвергся за "формалистскую" оперу "Леди Макбет Мценского уезда", он написал оптимистическую Пятую симфонию, названную в советской прессе "деловым творческим ответом советского художника на справедливую критику" ("Советский художник,— пишет Барнс,— не стал опровергать это суждение, и многие уверовали, что он сам написал такой подзаголовок поверх партитуры. Эти слова приобрели наибольшую известность из всего, что было им написано, он не стал от них отмежевываться: они оберегали его произведения"), и немало следующих. И другой, для которого такой шаг был невозможен по составу крови и таланта,— так что даже вымученные смертельным страхом попытки оказывались совершенно неприемлемыми для власти, враждебными ей. Два гения и, соответственно, две судьбы. Вообще прочитать этот роман как "роман о Шостаковиче под сенью Мандельштама" (а это название дает возможность такого прочтения) — невероятно конструктивный шаг, и в этом смысле мы здесь, для которых такой ход естественен, можем даже ощущать себя в позиции привилегированной (Елена Петрова перевела этот текст очень изящно — иногда, правда, кажется, что слишком).
Вот мы читаем у Барнса о том, какое мощное средство страх, пускающий корни в душе навсегда: "из ночи в ночь забирали какого-нибудь соседа... сегодня ночью одна жертва, завтра другая; это работала машина по нагнетанию страха среди оставшихся, среди временно уцелевших". Для нас это получает совершенно другую глубину и действенность в присутствии "Я на лестнице черной живу, и в висок // Ударяет мне вырванный с мясом звонок, // И всю ночь напролет жду гостей дорогих, // Шевеля кандалами цепочек дверных" и/или "Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников" из мандельштамовской "Четвертой прозы". Причем это работает — хоть и не настолько впрямую — и в той части барнсовского повествования, которая разворачивается "после Мандельштама". Во время, "когда Власть стала вегетарианкой", но Шостакович уже согласен на все ее условия — он вступает в партию, заседает в президиумах, читает написанные не им речи и понимает про себя все: "Трусом он был, трусом и остался. А посему крутился как угорь на сковородке. Остатки смелости он вложил в свою музыку, а трусость полной мерой — в свою жизнь".
Шум времени оглушает творца. Но — иногда — он же порождает его музыку. Ту, которая как ворованный воздух.
Джулиан Барнс. Шум времени. М.: Азбука-Аттикус; Иностранка, 2016. Перевод Е. Петровой




