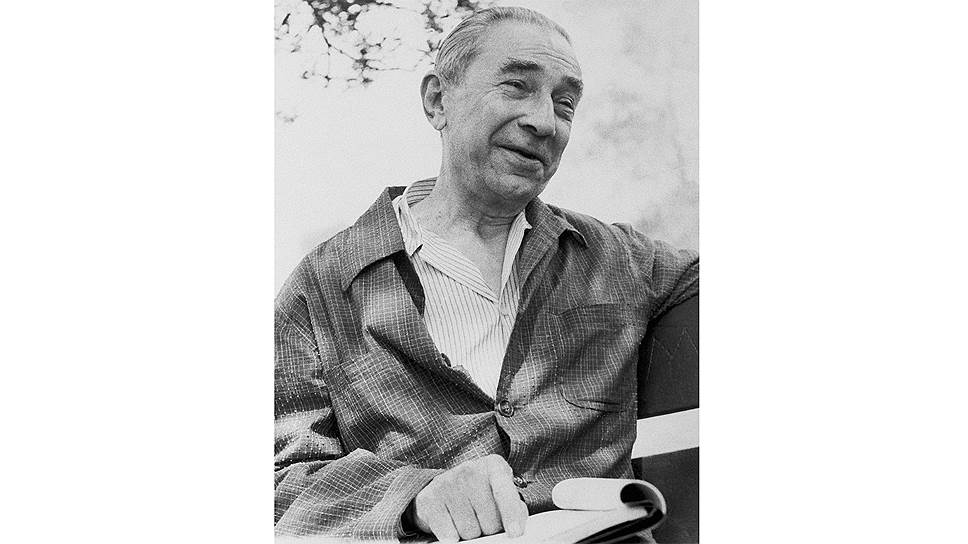История «Охоты на ведьм» в 20 главах и 20 фильмах
Проект Михаила Трофименкова
спецпроект
История «Охоты на ведьм» в 20 главах и 20 фильмах
Проект Михаила Трофименкова
 Вступление
Вступление
Именно "антиамериканистской", а не, как чаще говорят, "антиамериканской": речь шла об "идеологических диверсиях" против "философии американизма". Слушания завершились осуждением "голливудской десятки" сценаристов, режиссеров и продюсеров, отправленных в тюрьму за отказ — на основании первой поправки к Конституции США — давать показания.
Это был пролог к 15-летней "охоте на ведьм" (ее часто ошибочно именуют "маккартизмом", но сенатор Маккарти зачищал только госучреждения) — погрому шоу-бизнеса, роковым образом сказавшемуся на судьбах киноиндустрии. Магнаты-продюсеры, сначала не принявшие погром всерьез и даже противившиеся ему, оказались вскоре в одном строю с профессиональными и добровольными погромщиками. Классический Голливуд покончил с собой. Его погубила не только экспансия телевидения, но и страх, парализовавший творческую интеллигенцию. Его обескровили не только разорительные боевики вроде "Клеопатры", но и потеря множества молодых и полных сил работников.
Десятки из них лишились жизни или свободы. Многие сотни, занесенные в неофициальные (и оттого внушавшие почти мистический ужас) черные списки, остались без средств к существованию, эмигрировали или работали под псевдонимами. Жертвами "охоты на ведьм" оказались и те, кто предал свои убеждения, друзей и коллег, став — ради спасения карьеры — доносчиками.
Это было трагическое шоу, но зато какое шоу! Протоколы комиссии можно без всякой правки ставить на сцене "Театра.док": текстов, равных протоколам допросов Бертольта Брехта или Лэнгстона Хьюза, не смог бы сочинить и сам Брехт даже с помощью Беккета с Шекспиром.
Изгнание из голливудского рая всех, кто "левее стенки" (да и честных консерваторов тоже),— реакция ультраправого истеблишмента на радикальную политизацию американской культуры после Первой мировой войны, усилившуюся в годы великого экономического кризиса и президентства Ф.Д. Рузвельта (1933-1945) и особенно за время американо-советского боевого братства. И если сейчас нам кажется, что современный Голливуд политизирован, то это оптический обман: накал страстей 1930-1950-х годов современной Америке пока и не снится.
 Глава первая, в которой все еще танцуют
Глава первая, в которой все еще танцуют
Слева направо: Сэмюэл Голдвин с «Оскаром» за лучший фильм, Гарольд Рассел с «Оскаром» за лучшую мужскую роль второго плана и Уильям Уайлер с «Оскаром» за режиссуру, 1947 год
Фото: PHOTO BY ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES
Это было давным-давно, в те блаженные времена, когда все знали, что "Голливуд — величайший город США, а Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк и Вашингтон — его пригороды", а в Голливуде "каждый вечер был субботним". И самым субботним из всех был вечер четверга 13 марта 1947 года: Голливуд праздновал вручение "Оскаров". В 19-й, а для многих участников церемонии — в последний раз: они никогда уже не переступят порога главного голливудского праздника. Но тогда они все были вместе в концертном зале Shrine, впервые принимавшем торжество киноакадемии.
Снова вместе — впервые за шесть лет, минувших с последней предвоенной церемонии,— и праздновали они не только и не столько экранные победы. Главное: "Парни вернулись!" "Волшебный ковер" перенес через океан 8 млн солдат с фронтов Европы и Тихого океана.
Больше всего Голливуд соскучился по Джимми Стюарту, "мистеру Смиту" ("Мистер Смит едет в Вашингтон", Фрэнк Капра, 1939). Через три недели после того, как в марте 1941-го ему вручили "Оскар" за светскую комедию "Филадельфийская история", Стюарт — первым в Голливуде — надел военную форму. Многие звезды баловались авиаспортом, но только он, уйдя в армию рядовым, вернулся полковником, командиром авиакрыла, бомбившего Берлин.
Сам Капра тоже ушел в армию добровольцем еще до Перл-Харбора и тоже закончил войну полковником. Младший из семи детей нищих сицилийцев, выросший в гетто, он был беззаветно благодарен Америке и вложил свой морализаторский дар в дело военной пропаганды. 13 марта 1947-го оба полковника, снова ставшие просто актером и режиссером, надеялись стать "лучшим актером" и "лучшим режиссером" за нравоучительную историю о провинциальном филантропе, которому ангел-хранитель воочию показал, сколько добра тот сделал людям и как ужасна была бы жизнь без него.
Фильм назывался "Эта прекрасная жизнь".
Увечным ветераном вернулся мастер социальных драм и глубинных мизансцен майор Уильям Уайлер. Снимая величайший фильм о летчиках, он лично участвовал в налетах на Германию. Рядом с ним пулеметная очередь прошила оператора Танненбаума. Уайлер потерял сознания из-за кислородного голодания, а когда очнулся, оказалось, что он оглох навсегда.
Свой шедевр "Лучшие годы нашей жизни" (1946) он снял о солдатах, вернувшихся с войны. Их трое. Пехотный сержант Эл (Фредрик Марч) возвращается к рутинной жизни банковского клерка и детям, не помнящим отца. Капитан-летчик Фред (Дана Эндрюс) — к неверной жене-транжире. Моряк Гомер (Гарольд Рассел) лишился на войне обеих рук и не уверен, что вообще хочет жить.
"Лучшие годы" — главный соперник "Этой прекрасной жизни".
Сами их названия лезут в драку друг с другом. Закончились ли лучшие годы Америки, годы национального и мирового антифашистского братства, или американская жизнь прекрасна уже потому, что она — американская?
Победили "Лучшие годы". Семь "Оскаров"! Лучший фильм. Уайлер — лучший режиссер, Фредрик Марч — лучший актер. Гарольд Рассел — лучший актер второго плана. Роберт Шервуд — лучший сценарист. А еще лучшая музыка и лучший монтаж.
Семь месяцев спустя, в октябре 1947-го, Уайлер произнесет страшные слова: "Мне не позволили бы сделать "Лучшие годы" уже через полгода после того, как я их сделал". Говоря так, он не знает, что еще в августе лос-анджелесский отдел ФБР направил Гуверу рапорт о восьми фильмах, в том числе о "Лучших годах", содержащих "коммунистическую пропаганду". В рапорте указано, что актеры Роман Бонен и Хоулэнд Чемберлен состоят в компартии, что сценарист Шервуд связан с прокоммунистическими организациями. В качестве экспертной оценки к рапорту была приложена статья некоего Уильяма Мэркхэма из Plain Talk — "журнала, бесстрашно разоблачающего силы тьмы, готовящие мировую диктатуру в стране и за границей". Он назвал "Лучшие годы", выставляющие в негативном свете промышленников, торговцев и банкиров, "порочным и опасным фильмом".
Но самым страшным грехом Уайлера окажется то, что его герой от души врезал лавочнику, панибратски поделившемуся с ним своей политической философией: "Немцы и япошки ничего не имели против нас. Они просто хотели победить ихних англичашек и ихних красных. И они бы задали им трепку, если бы нас обманом не втянула в войну банда радикалов... Мы воевали не с теми, вот и все".
В 1944-м Уайлер сам едва не загремел под трибунал, когда — при полном параде — нокаутировал служащего вашингтонского отеля, помянувшего при нем "чертовых жидов".
Фрэнку Капре "Эта прекрасная жизнь" принесла одни неприятности. Это теперь этот фильм, считай, символ Америки, и на Рождество его показывают по всем телеканалам. В марте 1947-го Капре проигрыш в пяти главных номинациях показался катастрофой. Но настоящая катастрофа только ждала его.
"По сообщению (замазано), сценаристы Фрэнсис Гудрич и Альберт Хэкетт были замечены, когда ели ланч с коммунистами Лестером Коулом и Эрлом Робинсоном, сценаристами".
"(замазано) показал, что фильм представляет очевидную попытку дискредитировать банкиров, выбрав на роль Лайонела Бэрримора как "типаж Скруджа", чтобы он оказался самым ненавистным человеком в фильме. По нашим источникам, это является трюком, обычно используемым коммунистами".
"(замазано) показал, что этот фильм сознательно клевещет на высший класс, стремясь показать, что люди с деньгами недостойны даже презрения".
Так рапортовал Гуверу об "Этой прекрасной жизни" лос-анджелесский отдел ФБР в сентябре 1947 года.
А вскоре Капрой займется фирма посерьезнее — управление военной контрразведки. И доведет его до попытки самоубийства.
В марте 1947-го беда уже стояла на пороге. Она клубилась в речах конгрессменов со странностями и вполне адекватных "загонщиков красных". В редакционных колонках публицистов "со связями" и памфлетах параноиков. В речи президента Трумэна, произнесенной накануне голливудского бала: "Внешняя политика и национальная безопасность нашей страны находятся под угрозой". Она рвалась на волю из сейфов, где ждали своего часа списки тех, чьи имена назвали "профессиональные свидетели", сколотившие состояние на показаниях против тысяч незнакомых им людей, и документы, похищенные из комитетов компартии взломщиками из ФБР.
Томас Манн запишет в дневнике 19 марта: "Господствующий класс замышляет фашизм". Но Голливуд этого еще не понимает, он привык, что его проклинают. То за бесчинства магнатов-евреев, насилующих невинных дебютанток, то за засилье "красных", то за грубость социального кино, то за асоциальное благодушие. Настолько привык, что утратил иммунитет. Да и кто в Америке мог помериться с ним силами. Трумэны приходят и уходят, а Гранты и Чаплины остаются.
И они танцевали.
Танцевал 33-летний красавчик Ларри Паркс, переживавший, что актерский "Оскар" обошел его: ведь он идеально имитировал Эла Джолсона ("История Джолсона"). Утешала неминуемость сиквела — фильм вышел в лидеры проката. В апреле 1951-го он будет униженно умолять следователей: "Я не хотел бы, если вы только позволите, называть другие имена. Не ставьте меня перед выбором: перечить вам и отправиться в тюрьму или ощутить, какая это грязь — быть доносчиком. Что я завещаю своим детям?"
Танцевала коммунистка Гейл Сондергаард, номинированная за лучшую женскую роль второго плана ("Анна и король Сиама"). Она, в отличие от Паркса, не переживала: десятью годами раньше она получила "Оскар" за первую же свою кинороль. А на роль ведьмы в "Волшебнике страны Оз" ее не взяли, потому что она "слишком красива".
Через три года ее муж, блестящий сценарист и режиссер, коммунист Герберт Биберман отправится за решетку, а ее саму на 20 лет отлучат от экрана.
Танцевал сценарист нуара "Темное зеркало" Владимир Познер (полный тезка отца известного телеведущего). Ветерану Коминтерна, создателю в 1930-х парижского центра немецкой антифашистской эмиграции "Магазин сожженных книг", бежавшему из России от большевиков, а из Франции — от нацистов, Познеру предстоит третье бегство — от охотников за ведьмами.
15 октября 1947-го они снова соберутся все вместе, во всем своем блеске, в том же самом зале Shrine. На сцену выйдет 25-летний Джин Келли: он еще не спел под дождем, но Голливуд влюблен с первого взгляда в танцора, который и в жизни, как на экране, парил над землей.
На сцену он выйдет на костылях: "Я сломал щиколотку в воскресенье, когда танцевал. Я это сделал не нарочно, не ради театрального эффекта. Я здесь во имя Конституции Соединенных Штатов и Декларации прав человека, отданных на поругание".
7000 человек сойдутся в тот вечер поддержать комитет в защиту первой поправки, отстоять 19 своих товарищей, вызванных на допрос в комиссию. Тогда уже будет слишком поздно, а пока они танцуют.
 Глава вторая, в которой архангел Гавриил парит над Голливудом
Глава вторая, в которой архангел Гавриил парит над Голливудом

Франклин Делано Рузвельт приносит присягу во время инаугурации, 20 января 1933 года
Фото: National Archive/Getty Images
Память Голливуда короче девичьей: "охота на ведьм" в 1947-м застала его врасплох, хотя ждать ее следовало прямо с 6 апреля 1933 года. В тот день на подиум перед 200 сценаристами, собравшимися в отеле "Никербокер", взлетел 38-летний "забавный парень с яркими, коричневыми глазами, растрепанными волосами и огромным клювом, напоминавшим о Сирано де Бержераке". Объявив об учреждении Гильдии сценаристов, он призвал коллег дать "обет бастовать" и произнес невинные, но для своего времени революционные слова: "Писатель — творец фильма!"
Парня звали Джон Говард Лоусон, а с Сирано его сравнил закадычный друг, великий Дос Пассос. Они оба поверили в социализм на фронтах Первой мировой, где крутили баранки санитарных машин. Вместе основали богемную колонию экспатов в Париже и Лигу рабочей драмы в Нью-Йорке, вместе сидели в каталажках за участие в пикетах.
Лоусон, отец американской экспрессионистской драмы, взорвал Бродвей "Интернационалом" (1928), "бессвязным видением близящейся войны", "первой коммунистической пьесой в Америке": действие скакало из Кремля в Тибет, а оттуда в бордели Нью-Йорка. Тут-то Лоусона и позвал в Голливуд "последний магнат" Ирвинг Тальберг. Капиталист-романтик, он боялся революции, но не революционеров-художников. Его восхищение Лоусоном разделял, наступая на горло своему антисемитизму, великий и ужасный Сесиль Де Милль.
6 апреля 1933-го в "Никербокере" Лоусон поставил на карту карьеру, сделав первый шаг к скамье подсудимых по делу "голливудской десятки" — и в большую американскую историю. Точнее говоря, история вытолкнула его на авансцену, а в истории США не было месяца безумнее, чем март 1933 года, обрамленный премьерами двух безумных фильмов.
2 марта состоялась премьера "Кинг-Конга": ужас экономической катастрофы воплотился в чудовищной обезьяне, боге кризиса, похитившем Америку, как Зевс в обличии быка похитил Европу.
31 марта на экраны вышел "Архангел Гавриил над Белым домом". Лично Франклин Делано Рузвельт (ФДР) просил придержать премьеру фильма, который должен был вернуть Америке надежду (в Германии "Архангела" объявят "первым нацистским фильмом"), до своего вступления в должность. То был не фильм, а программа национального спасения, сочиненная на покое экс-помощником Ллойда Джорджа. Экранизировал ее газетный король Херст, а прокатывал истовый республиканец Луис Б. Майер — с Херстом, спонсором ФДР, его примирила идея конца демократии.
Герой "Архангела", развращенный и бессмысленный президент США Хэммонд,— карикатура на республиканцев Гардинга и Гувера, своей верой в невидимую руку рынка доведших страну до ручки. На счастье нации, он любит гонки без правил, быстро разбивается и впадает в кому. Тут-то в него и вселяется архангел Гавриил. Президент оживает, разгоняет Конгресс, вводит чрезвычайное положение и, поговорив по душам с безработными, осаждающими столицу, объявляет программу реформ.
Гангстерским королям Гавриил-Хэммонд предлагает убраться на историческую родину — Италию. Когда те в ответ пытаются его подстрелить (15 февраля стреляли в ФДР), он бросает броневики на штурм гангстерские вилл. Пленных расстреливают на острове Эллис. На фоне статуи Свободы! Принудив Европу к разоружению под дулами канонерок, Гавриил улетучивается восвояси, а президент Хэммонд, таким образом, благополучно умирает.
Отсрочка проката создала эффект "петли времени". 23 марта кончилась демократия в Германии: речь Гитлера в рейхстаге дословно совпадала с речью Хэммонда. Но к этому моменту многие в США мечтали о фюрере. 10 марта перед нью-йоркской премьерой хита "Говорит Муссолини" зрителям раздавали листовку: "Многие из нас мечтают о диктаторе. Его имя не Муссолини, не Сталин, не Гитлер. Его имя — Рузвельт".
Вступивший в должность ФДР повел себя в соответствии с программой Хэммонда-Гавриила. Например, он разместил голодающих ветеранов, осадивших Вашингтон, в военном лагере, велев кормить трижды в день. Первая леди месила лагерную грязь по щиколотку и дирижировала хором ветеранов.
И вообще ФДР спасал капитализм социалистическими методами, заслужив глупую, но искреннюю ненависть спасенных капиталистов. Он немедленно отправил банки, лопавшиеся один за другим, на "каникулы", спровоцировав коллапс Голливуда, и так дышавшего на ладан. К этому моменту уже обанкротился Paramount и рухнула империя Фокса. Теперь и Universal аннулировала все контракты. 9 марта магнаты на общих собраниях студий объявили о "временном" сокращении зарплат вдвое.
Заставил согласиться своих подданных на сокращение жалованья и Майер, в отличие от коллег в финансовые аферы не ввязывавшийся: наличные ему возили из Нью-Йорка самолетами. О Майере говорили так: он может убедить слона в том, что тот — кенгуру, а лучшим учеником Макиавелли не может считаться лишь потому, что не умеет читать. Решив затянуть сотрудникам пояса, он одним махом, как говорили, "создал больше коммунистов, чем Карл Маркс".
Через несколько дней студии закрылись. Казалось, что навсегда, но их спасла, взяв под свое управление, Уолл-стрит. И тут творческие работники догадались: их единственное спасение — профсоюзы. И первыми догадались сценаристы.
Голливуд гарантировал им достаток, но за 500-1000 долларов в месяц они расплачивались унижениями. В титрах часто оказывались не их имена, а продюсерских свояков, букмекеров, партнеров по гольфу. А тот, кого не было в титрах, мог забыть о продлении контракта. Президент Columbia обращался к ним попросту: "Эй, евреи". У Уорнера они творили под присмотром охраны, от звонка до звонка.
История профсоюзной борьбы в США омыта реками крови. Противостоять крупному бизнесу решались такие харизматики, как горняк Большой Билл Хейвуд, одноглазый, весь в шрамах, и Гарри Бриджес, грузчик с лицом английского аристократа. Но голливудским заводилой оказался мечтательный "Сирано" Лоусон.
По его зову девять "золотых перьев", соблюдая строжайшую конспирацию, замыслили гильдию. Вопреки опасениям, сценаристы хлынули в ее ряды, порывая с киноакадемией. Победить страх помог, легализовав профсоюзы, сам ФДР. За сценаристами последовали актеры: с киноакадемией порвали сразу три ее звездных вице-президента.
Продюсеры сначала удивились и заявили, что федеральный закон на Голливуд не распространяется: здесь не работают, а творят. Затем — испугались, поняв, что творческие союзы не ограничатся цеховыми проблемами, станут национальной силой, "левой" бомбой замедленного действия. Борьба между магнатами и творческими профсоюзами затянулась на девять лет. Именно в ее ходе магнаты изобрели страшное оружие будущего — черные списки.
Первым о них поведал сценаристам в 1936-м Уорнер, хозяин самой социально-критической и антифашистской студии, отчаянно боровшийся с любыми социальными требованиями подчиненных. Вот как рассказывал об этой встрече Далтон Трамбо в письме другу: "Он сказал, что наши лидеры — коммунисты, радикальные ублюдки и сукины дети. Он прибавил, что лидеры гильдии уже под следствием. Лично ему на все плевать, он заначил пять миллионов кэшем и, будь его воля, закрыл бы студию хоть завтра. Многие сценаристы навсегда расстанутся с бизнесом, а обвинить хозяев индустрии в том, что они создали черные списки, сказал он, будет невозможно, потому что все будет решаться по телефону".
Списки изгоев существовали издавна, но в них попадали герои сексуальных и криминальных скандалов. Уорнер придумал списки политические. Первым в них "навечно" попал Трамбо. Но студии талантами еще не разбрасывались: вечность для Трамбо длилась три месяца, а потом конкуренты Уорнера предложили ему сказочный контракт.
По большому счету, эта была веселая война: полиция и наемные банды могли избивать докеров, но не киношников. Как-то сценаристы пришли к режиссерам договориться о солидарных действиях. Виктор Флеминг как раз негодовал по поводу забастовки на заводах Форда: "Если бы я был Фордом, я бы подогнал пулеметчиков и смел ублюдков к чертовой матери".
Когда ему напомнили о цели собрания, Флеминг очнулся: "Минуточку, ребята. Никаких стачек, манифестов и прочего коммунистического дерьма. Завтра мы придем в павильоны, как обычно. Сядем за камеры — ну и все. Не будем репетировать, не будем снимать. Мы ни хрена не будем делать. Мы просто просидим на месте весь день. И посмотрим, что эти ублюдки-продюсеры смогут с нами поделать".
Благоговейную тишину нарушил чей-то голос: "Отличная идея, Вик, но что мы будем делать, если Майер выставит в окна пулеметы и сметет нас к чертовой матери?"
Профессиональные шутники шутили, зная, что стрелять в них никто не станет, но еще не догадывались о том, что бывают вещи пострашнее пулеметов.
 Глава третья, в которой желтый репортер, детский писатель, вор и миссис Икс вступают в партию
Глава третья, в которой желтый репортер, детский писатель, вор и миссис Икс вступают в партию

Фото: DIOMEDIA / Photos 12 Cinema
/article>Продюсеры не сомневались, что профсоюзы — плод коммунистического заговора. Будущее вроде бы подтвердило их подозрения: двое из "отцов" гильдии — Лоусон и Коул — сели по делу "голливудской десятки". Но в 1933-м они о коммунизме еще и не помышляли.
Магнаты исходили из той же логики, что и один персонаж Стейнбека: "Красный — это сукин сын, который хочет тридцать центов, когда мы платим ему двадцать пять". Да, 1930-е назовут "красным десятилетием": казалось, только марксизм может рационально объяснить катастрофу кризиса. Силу партии составляли "попутчики": Драйзер и Дос Пассос агитировали за кандидата в президенты от компартии, Фицджеральд штудировал резолюции Коминтерна. Но сама партия, как говорил впоследствии режиссер Жюль Дассен, "с точки зрения силы и численности была почти что шуткой". В 1931 году в ней состояли 9219 человек. Четверо из них — в Голливуде, и только один из них стоял у истоков гильдии — Джон Брайт.
Ему едва исполнилось 23 года, когда снятый по его сценарию "Враг общества" (Уильям Уэллман, 1931) совершил жанровую революцию. Это был, по сути, первый образцовый гангстерский фильм. Бандитов в цилиндрах и смокингах из кино 1920-х сменили парни из ирландского гетто. История Мэтта и Тома отзовется эхом в "Однажды в Америке" Серджо Леоне. Многие эпизоды "Врага" войдут во все хрестоматии: Том, без видимых причин давящий грейпфрут о лицо любовницы; мертвый Том, подброшенный убийцами в родительский дом.
В Голливуд из Чикаго, где Брайт работал в газете, он не приехал, а сбежал, спасаясь от гнева коррумпированного мэра, чью подноготную юный репортер обнародовал. С собой он прихватил рукопись "Пиво и кровь", по которой снят "Враг".
В 1934 году Уорнеры выставили его со студии, но не за политику. Дэррила Занука разгневал Брайт, интриговавший, чтобы заменить в своем новом фильме пассию Занука на другую актрису. Слово за слово. Брайт врезал магнату и едва не выкинул в окно. Это не было чем-то из ряда вон выходящим: нравы в Голливуде недалеко ушли от времен Дикого Запада. Тогда же Брайт создал первую коммунистическую киноячейку, в которую вошли еще трое.
44-летний Сэмюэль Орниц — впоследствии еще один из "десятки" — годился единомышленникам в отцы. Сын бруклинского коммерсанта отдал 12 лет социальной работе с заключенными и детьми — жертвами жестокого обращения. Врачуя язвы общества, склонился к коммунизму. Прославился детскими книжками и романами о еврейском Нью-Йорке ("Господина Пузана" издали в СССР), а в Голливуде работал с 1929 года. В его доме — "Салоне мистера де Сталь" — собиралась немногочисленная "левая" интеллигенция Голливуда.
Антипод солидного, рассудительного Орница — 30-летний Роберт Таскер. Сын банкира, он порвал с семьей после самоубийства матери. Работал где придется, а в 1924-м получил "от 5 до 25 лет" за налет в День святого Валентина на ночной клуб. Взойдя на сцену — в смокинге и с незаряженным револьвером,— он предложил клиентам сложить ценности в узел из скатерти, который вручил негритянскому джаз-банду: "Цветных обижают все, кому не лень". Полицию он поджидал, безмятежно покуривая на ступенях. Возможно, ему просто требовалось свободное время для творчества. Из тюрьмы Сан-Квентин, которой он посвятит свой самый известный сценарий, Таскер отправил рассказы великому издателю Генри Менкену, тот пришел в восторг.
В тюрьме он издавал газету и затеял литературный конкурс. Вскоре 400 его товарищей по несчастью возомнили себя писателями, а начальник тюрьмы запретил переписку с издательствами: "Мы вам не литературные агенты".
В 1929-м Таскера (помог Менкен) освободили под честное слово. Самая знаменитая сценаристка, бывший фронтовой корреспондент Фрэнсис Мэрион взяла его в любовники, ученики и литературные "негры", получив "Оскар" за их совместный труд "Казенный дом" (1930). Вскоре Таскер стал нарасхват, работая в соавторстве с Орницем и Брайтом, с которым делил страсть к игре и мексиканкам и "левые" взгляды: уважением к "политическим" Таскер проникся в тюрьме.
О них ходит уйма легенд. Как-то продюсер Бен Шульберг поручил им восславить ненавистного им (как коммунистам и уголовникам) Пинкертона, создателя частной машины террора на службе фабрикантов. Отказаться было невозможно, но тут Шульбергу написала некая женщина: Пинкертон убил ее мужа, чья кровь падет на голову продюсера. Богобоязненный Бен аннулировал проект. Письмо сочинили, естественно, Брайт и Таскер.
В 1941-м Шульберг выгнал обоих за сценарий о старческой страсти, повторявший перипетии романа самого Шульберга и актрисы Сильвии Сидни. Таскер перебрался в Мексику, произнеся пророческие слова: "Я должен был покончить с собой в Сан-Квентине". Там он сполна оправдал репутацию "шейха в представлении девушек из высшего общества и стенографисток". Вскоре он уже жил в особняке с внучкой президента Коста-Рики. Когда Таскер узнал, что жена изменяет ему с сыном шефа полиции, взыграла паранойя старого зэка, помноженная на воображение. Он решил, что любовники строят заговор, чтобы сгноить его в тюрьме, и предпочел опередить их, запив текилой смертельную дозу секонала.
Четвертой в "красном" квартете была, по словам Брайта, "писательница, жена известного оператора, которая не попала в черные списки только потому, что не работала в кино".
На эту роль подходит Санора Бабб, невезучая соперница Стейнбека. В конце 1930-х, работая в Федеральном агентстве помощи фермерам, она объезжала штаты, в которых экономическую катастрофу усугубила экологическая — пыльные бури, известные как "пыльный котел". На основе отчетов о командировках она написала книгу "Чьи имена неизвестны", от которой издатели отказались: ее опередили "Гроздья гнева". Бабб тщетно утверждала, что живой классик безбожно использовал ее тексты. Убедиться в этом удалось только в 2004-ом, за год до смерти 98-летней Бабб, когда ее книга увидела свет.
В Лос-Анджелесе Бабб жила с 1929-го. Работала в Los Angeles Times, но из-за кризиса оказалась буквально на улице: ночевала на скамейках, пока не устроилась секретаршей на Warner. А там как раз работали Брайт, Таскер и Орниц. Мужем ее был великим новатор операторского искусства Джеймс Вонг Хоу, изобретатель, мастер игры теней, пионер глубокофокусной съемки. Вонг был в Голливуде нарасхват, но его происхождение тяготело над ним. Межрасовый брак с Бабб, заключенный в Париже, в США был вне закона, они даже не имели права жить под одной крышей.
В мемуарах (1961) Брайт не рискнул назвать ее по имени. Хотя черные списки уже отступали в прошлое, битые "красные" берегли тех, кто избежал репрессий. Даже в 1980-х старики наотрез отказывались назвать историкам однопартийцев, сделавших карьеру.
Сценарист Пол Джеррико объяснял: "Я свободно говорю о себе как о коммунисте и о Лоусоне, чья принадлежность к компартии вряд ли является секретом, но я не готов говорить о других людях, независимо от того, были они коммунистами или нет".
Его коллега Морис Рапф упорствовал: "Я никогда никого не называл, и никогда не назову — за исключением тех, кто назвал себя сам. Я могу говорить о доносчиках, потому что они сами назвали себя. Мертвые не возражали бы — это точно. Но я не хочу говорить о них как о коммунистах. Я знал уйму людей, которые были коммунистами — вы бы изумились, узнав имена некоторых из них".
За них это делали другие — наугад или со злым умыслом. В годы "охоты на ведьм" кому только — от Риты Хейворт до Фрэнка Синатры — не припишут членство в партии под "оперативными псевдонимами". И, скорее всего, никто никогда не узнает правды.
 Глава четвертая, в которой юные надежды шоу-бизнеса слетаются на огонь мировой революции
Глава четвертая, в которой юные надежды шоу-бизнеса слетаются на огонь мировой революции

Одной из самых громких голливудских сенсаций 1980-х фильм "Фрэнсис" стал не только из-за жанровых достоинств трагической мелодрамы, но из-за ее "социальной значимости". Фильм раскрыл тайну исчезновения с экрана юной звезды Фрэнсис Фармер (Джессика Лэнг), в 23-летнем возрасте названной "новой Гарбо" за исполнение ролей одновременно матери и дочери ("Приди и владей", 1936).
Фармер была образцовой "своей среди чужих". Красавица-интеллектуалка росла с матерью, психопаткой и обскуранткой, в скучном Сиэтле. Контракт с "Парамаунт" тяготил ее: она мечтала играть Чехова и сбежала на Бродвей, где сначала все сложилось, как она мечтала: ее взяли в моднейший театр "Группа", в нее влюбился ее кумир — драматург Клиффорд Одетс. Но потом он грубо оборвал связь, на гастроли "Группы" Фармер не взяли, а Голливуд наказал ее, заключив в гетто ничтожного кино. Хрупкая психика и стремительный алкоголизм увели Фармер в необратимое пике.
Два года ее трэш-трагедия кормит желтую прессу. Дебоши, драки с полицией и судьями. Ни одна актриса еще не представала в таком похабном виде, как она. "Крысы!" — кричит Фрэнсис фотографам. А они снимают, как ее выволакивают голую из ванной, где она пряталась от копов, взломавших дверь ее домика. Мать сдает ее в психушку. Там пациенток мучают электрошоком и отдают позабавиться морпехам в увольнительной. Из больницы она выйдет непохожая на себя и умрет в 1970-м в 56 лет.
Все это было в фильме, упустившем из виду одно. Несчастья Фармер начались с ее поездки в СССР. Мать потом рассказывала психиатрам, что ее доченьку подменили в Москве.
В 1935-м она выиграла конкурс коммунистической газеты, которую выписывал декан ее театрального факультета. Приз — мечта любой театралки: поездка в Москву, во МХАТ.
Но в Сиэтле правила бал организация "Бдительные": они жгли "красные" книги, запугивали диссидентов, а на вечеринке в честь Фармер подрались с журналистами. На митингах патриоты проклинали ее как ведьму. Мать клялась броситься под колеса автобуса, на котором она уедет в Россию: "Университетские преподаватели предают нашу страну! Кровавый кинжал Советов пронзил самое сердце Америки. Я должна предупредить всех родителей: ваши дочери и сыновья в опасности! Радикальные течения распространились во всех учебных заведениях, следите за своими детьми!"
Фармер через газету заверила общественность, что она не коммунистка, а в СССР едет исключительно ради театра. Но если она и не была коммунисткой, то родная мать и "бдительные" сделали все, чтобы она ей стала. В 1940-м журнал The American Mercury трижды назвал ее самой оголтелой "сталинисткой" Голливуда, защитницей советско-германского пакта.
И не будь у Фармер этой репутации, Голливуд не отдал бы ее на заклание. Проблемы других звезд, позволявших себе и не такие выходки, без огласки разрешали специально обученные люди — "фиксеры". Фармер можно считать первой жертвой "охоты на ведьм".
Позднее поездки в СССР станут отягчающим обстоятельством для подозреваемых в "антиамериканизме". Хотя кое-кому их не припомнят вообще, как Алексу Норту, первому композитору, удостоенному "Оскара" "за вклад" и одному из первых членов Союза советских композиторов. Норт боготворил Прокофьева, мечтал учиться в России и почему-то решил, что проще всего это сделать, нанявшись в СССР специалистом народного хозяйства. Только разгильдяйством начальства Центрального телеграфа можно объяснить то, что Норту, "немного знавшему азбуку Морзе", удалось проработать там в 1934-м две недели. От высылки его спас новый друг Григорий Шнеерсон, музыковед, работник Коминтерна и аккомпаниатор Эрнста Буша. Счастливый Норт два с половиной года отучился в консерватории по классу композиции, а на каникулах работал музыкальным директором сразу двух театров — латышского и немецкого.
Его везение объяснимо: таких, как он, был слишком много. В эти годы десятки тысяч янки искали работу на стройках пятилетки. Десятки тысяч побывали в СССР как туристы: 100-дневная виза, включавшая в себя дорогу, проживание и питание, стоила 500 долларов. Приработок любой образованный янки находил без труда: корреспонденции из СССР газеты, даже заштатные, отрывали с руками. Идеологическая обработка американцев была под запретом. Сначала — чтобы ускорить установление дипломатических отношений. Потом — чтобы не повредить им.
Повседневная нищета не смущала янки. Зато три вещи сражали интеллектуалов наповал: отсутствие расовой дискриминации, сексуальная революция и революция культурная. К Мейерхольду и Эйзенштейну иностранцы стояли в очереди. А будущего знаменитого аниматора Дэвида Хилбермана, например, в СССР привела мечта встретиться с Горьким.
Будущий каннский лауреат Джозеф Лоузи, когда пришла пора возвращаться в Штаты, добился приема у Куусинена, секретаря Коминтерна, и выразил готовность валить лес в Карелии, только бы остаться в СССР. Если верить мемуарам Лоузи, Куусинен охладил его пыл: вы, юноша, больше пользы принесете, занимаясь своим делом — театром. Есть резоны полагать, что разговор этим не ограничился и великий режиссер побывал курьером Коминтерна, если не советской разведки. Лоузи уговорил приехать в Москву и свою подругу — молодого, но знаменитого модельера Элизабет Хоуз, устроившую в Москве в 1935-м первое после революции модное дефиле и поведавшую затем The New York Times: "Женщины Советов хотят стильно одеваться. Я сказала, что им не следует пытаться копировать чужеземную моду. Они крупные женщины, крепко сложенные, и у них должен быть собственный стиль"
Из чистого любопытства подались в СССР отпрыски влиятельнейших продюсеров, "наследные принцы" Морис Рапьф и Бад Шульберг, вернувшиеся оттуда правоверными коммунистами. Детство в окружении рукотворных иллюзий не проходит бесследно.
Стон стоял над Голливудом: магнаты бросились "лечить" детей, объединенные солидарностью отцов. Страшнее коммунизма был отказ наследников от "королевства". Пугливый Гарри Уорнер причитал, что молокососы погубят всю киноиндустрию. Майер сорвался: "Вот из-за таких, как вы, и существует антисемитизм". Злой Джек Уорнер рычал: "Вы, богом проклятые сопляки, кретины, идиоты, из-за вас у всех у нас будет куча неприятностей". Бесполезно. Тогда добрый волшебник Ирвинг Тальберг пригласил отступников на ланч и сумел если не вернуть их на путь истинный, то успокоить родителей.
Все было очень просто и ошеломляюще неожиданно: Тальберг рассказал, что состоял в Молодежной социалистической лиге и произносил на всех углах пылкие речи. А потом вытащил из рукава джокера: познакомил мальчишек с преуспевающим продюсером Альбертом Левином, оказавшимся марксистом.
"Он все цитировал и цитировал, а я ничего этого не знал. Мы поняли, что ни черта о марксизме не знаем", — вспоминал впоследствии Шульберг. Юноши поняли, что надо "учиться, учиться и учиться", и вернулись в колледж. Потом, в Голливуде, став сценаристами, они изумятся: вокруг — сплошные "красные". И вскоре станут умелыми агитаторами, вовлекшими в ряды компартии множество светских и, казалось, аполитичных коллег. Но к тому времени ко всем достоинствам СССР прибавится главное: Голливуд увидит в нем единственную защиту от победы фашизма во всем мире.
 Глава пятая, в которой голливудский кардинал благословляет коммуниста Каца
Глава пятая, в которой голливудский кардинал благословляет коммуниста Каца

В сентябре 1943 года весь Голливуд толпился на премьере "Стражи на Рейне" Хермана Шамлина, экранизации бродвейского хита Лилиан Хеллман. Через два года Шамлин снял свой второй фильм — по роману Грэма Грина "Доверенное лицо".
В "Страже" немец Курт Мюллер с женой-американкой, 17 лет не бывшей на родине, приезжал в вашингтонский дом ее родителей — он "нуждался в покое". В "Доверенном лице" испанец Луис Денар, потеряв жену и дочь при бомбежке Мадрида, прибывал в тихую лондонскую "гавань". Но покой им даже не снился.
Курт собирал средства для немецкого подполья. Луис убеждал британских промышленников отказаться от поставок угля франкистам. Курт убивал скользкого румынского графа, фашиста и шантажиста, и возвращался в немецкое подполье. Луис провоцировал забастовку шахтеров.
У профессиональных революционеров, впервые ставших героями Голливуда, один прототип. Тот же, что у Виктора Ласло, антифашиста, спасенного в "Касабланке" героем Богарта. Тот же, что у неуловимого вождя пражского подполья в "Заложниках", (1943), которому сценарист фильма, будущий член голливудской десятки Лестер Коул, без затей подарил фамилию, под которой прототипа знал Голливуд,— Бреда. Правда, экранный Бреда был Паулем, а реальный — Рудольфом. Но это такая мелочь, учитывая, что Бреда — лишь одно из имен создателя Антинацистской лиги Голливуда (АЛГ), самой мощной организации Народного фронта 1930-х.
АЛГ собрала огромные суммы для немецких эмигрантов и Испании. Сорвала создание Витторио Муссолини (сыном дуче) совместной с Голливудом студии, превратила в кошмар визит Лени Рифеншталь. Во главе ее изумительно уживались коммунисты, либералы, консерваторы и "акулы" вроде Джека Уорнера, угрожавшего забастовщикам пулеметами.
Бреда — герой многих мемуаров.
"У него были большие меланхоличные глаза, сладчайшая улыбка и аура тайны, в которую он был готов посвятить вас и только вас, поскольку никого не любил и не ценил так высоко".
"Вкрадчивый и ловкий оперативник, загадочный и красивый, с каким-то нездоровым обаянием".
"Нельзя сказать, что с ним скучно. За это ему прощают множество грехов".
Таков стиль воспоминаний современников о Бреде.
Голливуд влюбился — мгновенно, до обморока — в человека невнятной национальности, на шести языках расписывавшего кошмары нацистского террора и героику сопротивления. Человек кино, он знал, что люди кино смотрят реальность как фильм, и щедро угощал Голливуд жестокой поэзией Коминтерна. Баллады о засадах, побегах, переходах под пулями пограничных рек были вымыслом. Но он действительно был объектом слежки, а то и охоты пяти разведок. Его имя всплывало в рапортах о перестрелке на подпольной радиостанции, оборудованной нацистами-диссидентами в Чехии, или убийстве маститого гея, водившегося с штурмовиками, на австрийском курорте.
Он соблазнял Голливуд как женщину, а ни одна женщина не могла перед ним устоять.
"Назови вы его по любому поводу лжецом, лицемером и бандитом, он бы и глазом не моргнул. Но, если ему казалось, что вы усомнились в том, что юная Марлен Дитрих была его женой, он впадал в бешенство. И он действительно переспал со всеми привлекательными женщинами, которых повстречал",— писал журналист Клод Кокберн.
Весной 1936 года он не приехал в Голливуд, а спустился с небес на самолете 30-летнего князя Хубертуса цу Левенштайн-Вертхайм-Фрейденберга, носившегося с идеей немецкого правительства в изгнании. Деятель католической Партии центра, конфидент папы римского, Хубертус был потомком древнего рода, превосходил в левизне многих социал-демократов и дрался на берлинских улицах с нацистами.
"Порода" гипнотически действовала на янки, а на парвеню, ставших голливудскими магнатами, вдвойне. На летном поле его встретил кардинал Кентуилл, его перстень князь благоговейно поцеловал. Попутно кардинал благословил и Бреду, так что пресса растрезвонила, что Бреда — лицо высокого духовного сана. Присутствовал кардинал Кентуилл — вместе с Тальбергом, Уорнерами, Голдвином и прочими Мэри Пикфорд — и на учредительном банкете АЛГ в апреле 1936-го. Когда же начались здравицы за Сталина, удалился по-английски.
Знал бы он, что благословил коммуниста и еврея Отто Каца. Но об этом знали только многочисленные в Голливуде немецкие эмигранты — Кац был знаменит в Берлине 1920-х. Знали и помалкивали, убедившись на горьком опыте, что если и есть шанс когда-нибудь вернуться на свободную родину, то он в руках Каца и таких, как он.
В США Кац въехал под собственным именем. Якобы с целью подготовки книги об арктических экспедициях. И он действительно был автором нашумевшей книги о Нобиле "Девятеро во льдах" (1929).

Английский паспорт Отто Каца, 1946 год
Отпрыск состоятельного пражского фабриканта, поэт и журналист, друг Кафки, он, как и многие из "потерянного поколения", вернулся с мировой войны, твердо зная, что с этим миром по-хорошему нельзя. В 1922-м 27-летний Кац переехал в Берлин и вступил в партию. Коминтерновский гений пропаганды Вилли Мюнценберг вырастил из Каца своего альтер эго, полномочного представителя в театральных и кинокругах.
Кац помог великому Пискатору создать свой театр, в котором занял кресло директора и который довел до банкротства. Вину он искупил, вывезя Пискатора в Москву, где тот получил возможность снять свой единственный фильм "Восстание рыбаков". Учась в Международной ленинской школе (1931-1933), Кац одновременно возглавлял немецкую секцию коминтерновской студии "Межрабпомфильм", где продюсировал фильмы Йориса Ивенса и Ганса Рихтера.
Чем бы он ни занимался — издавал "коричневые" и "белые" книги о нацистском терроре, режиссировал в Лондоне "контрпроцесс" нацистских поджигателей Рейхстага или штурмовал с автоматом в руках гестаповские явки в Барселоне,— он никогда не забывал о кино. Он походя порекомендовал Хичкоку и вывел в звезды прозябавшего в лондонских трущобах Петера Лорре. Любовь к кино не всегда была бескорыстна. В годы испанской войны, когда Кац фактически отвечал за всю заграничную пропаганду республики, по его заданию Бунюэль перевозил через французскую границу сумки с "черным налом" Коминтерна, а Фриц Ланг работал его "почтовым ящиком", на который приходили инструкции голливудским коммунистам.
Он улизнул из тысячи вражеских ловушек, чтобы пасть от руки соратников. В 1952-м редактора газеты "Руде право" Андре Симона (последний псевдоним Каца) повесят в родной Праге как шпиона, провокатора и сиониста. Только тогда Лилиан Хеллман в полной мере постигнет смысл ответа на вопрос, который задала Кацу во время лирической прогулки по фронтовому Мадриду: "Трудно ли быть коммунистом?"
 Глава шестая, в которой Орсон Уэллс совершает пролетарскую революцию на Бродвее
Глава шестая, в которой Орсон Уэллс совершает пролетарскую революцию на Бродвее

Как ни уверял Роббинс, что его фильм основан на реальных событиях, многие сочли "Колыбель" ретропастишем, поместившим реальных людей — упитанного наглого юношу Орсона Уэллса (Ангус Макфадьен) и Марка Блицстайна (Хэнк Азария), элегантного гея-коммуниста,— в фантасмагорические обстоятельства. По фильму получается, что их опера "Колыбель будет качаться" почти провоцировала на Бродвее пролетарский мятеж. И принесла серьезные осложнения серьезным людям: от Гопкинса, правой руки Рузвельта, до забавной тетеньки Хелли Фланаган (Черри Джонс), почему-то распоряжавшейся судьбами театра. И да, это кажется неправдоподобным, однако в жизни все было еще круче.
Запустив титаническую программу трудоустройства безработных, Рузвельт не забыл пролетариев творческого труда. Десятки тысяч художников занялись — за те же $23,50 в неделю, что и землекопы,— социальными работами: собиранием фольклора, росписью общественных зданий и подобным. Созданный в рамках "нового курса" Федеральный театральный проект (ФТП) озаботился масштабной пропагандой театральной культуры и самого "нового курса". Возглавила ФТП 45-летняя Хелли Фланаган, создательница студенческого театра, кокетливая, жизнерадостная, демократичная и помешанная на миленьких шляпках дама. Побывав в СССР, она заболела идеей театра, меняющего реальность. Вместе с тем статус госслужащей навязывал ей роль цербера. Опера 32-летнего Блицстайна — героический скандал и великолепная кульминация деятельности ФТП.
"Блицстайн был почти святым. Он тотально и безмятежно верил в Эдем, ждущий нас всех по ту сторону революции. Когда он входил в комнату, свет становился ярче. Он был снарядом, устремленным к одной цели, и этой целью была его опера — он почти поверил, что одно ее исполнение станет сигналом к началу революции" — так оценивал Блицстайна Орсон Уэллс.
Сын банкира-социалиста, сноб и проповедник искусства для искусства, не сойдясь характером со своим учителем Шенбергом, он выбрал стезю "пролетарского композитора". На оперу его подвигла личная трагедия — смерть от нервной анорексии, практически самоубийство, писательницы Евы Гольдбек, его жены, друга и соратницы, единственной женщины в его жизни. Она познакомила Марка с Брехтом, к нему он и пришел излить горе, под тяжестью которого написал "Монетку под ногами" — песню умирающей с голоду проститутки. Брехт заметил: "Почему бы вам не написать пьесу обо всех формах проституции — о проституировании прессы, церкви, судов, искусства, всей системы?"
Опера в брехтовском духе, название которой восходило к образу вечно качающейся колыбели из поэзии Уитмена и "Нетерпимости" Гриффита, родилась за пять недель. Место действия — Стилтаун (город стали), США, на корню купленный мистером Мистером. Действие начиналось с ареста проститутки Молли, которая не дала полицейскому, а заканчивалась революцией. Флешбэки каталогизировали формы проституции. Священник благословлял войну во имя прибылей сталелитейных магнатов. Редактор газеты развязывал травлю профсоюза. Скрипач Яша ублажал слух миссис Мистер. Врач лжесвидетельствовал, что погибший по вине хозяев рабочий был пьян.
Фланаган с энтузиазмом приняла "Колыбель". За постановку взялись два гения: 22-летний Орсон Уэллс, уже прославившийся знатным творческим скандалом — постановкой "Макбета" с чернокожими актерами и барабанщиками вуду, и продюсер Джон Хаусман, которого сравнивали с Дягилевым.
12 июня 1937-го, за четыре дня до премьеры, Фланаган отменила премьеру "Колыбели" в бродвейском театре Максима Эллиота. Официально — из-за сокращения финансирования: на США обрушилась новая волна кризиса. Однако дело было не только и не столько в деньгах. 30 мая случилась "бойня в День поминовения". Чикагская полиция, охранявшая офис сталелитейной компании Republic, беспричинно открыла огонь по абсолютно мирной демонстрации забастовщиков. Десять погибших, семеро из них были убиты выстрелами в спину. Тридцать-сорок раненых, девять из них остались инвалидами. Около ста человек зверски избиты дубинками. Суд признал действия полиции вынужденными, правительство от рабочих отступилось. Актеры ФТП выступили перед ранеными в госпитале, однако поставленная на государственные деньги опера, в которой хор пел "Пусть ничто не грозит Демократии! / Пусть ничто не грозит свободе! / Пусть ничто не грозит стали и семье Мистера!", в таком контексте была немыслима.
16 июня театр был не только заперт, но и оцеплен национальными гвардейцами. Уэллс, Хаусман и Блицстайн бросились искать новый зал (надо ли говорить, что костюмы и декорации остались запертыми в Эллиоте) — и им повезло арендовать театр "Венис". Туда и переместилась толпа зрителей. Новое помещение оказалось гораздо просторнее, и та же троица принялась зазывать прохожих. Когда зал заполнился, выяснилось, что профсоюзы способны чинить препятствия ничуть не хуже государства. Профсоюз музыкантов запретил им играть, пока не будут выплачены гонорары, профсоюз "Актерское равенство" запретил своим членам участвовать в спектакле, не одобренном правительством. Блицстайн сел за фортепьяно, намереваясь в одиночку отыграть и спеть оперу от начала до конца.
Хаусман вспоминал: "После первых тактов луч прожектора скользнул со сцены в зал — туда, где стояла тонкая девушка в зеленом платье, с крашенными в рыжий цвет волосами и остекленевшим взглядом. Сначала ее голос был едва слышен в большом театре, но с каждой нотой крепчал. Это требовало почти сверхчеловеческого куража от неопытной исполнительницы: встать перед двумя тысячами человек в неприспособленном и делающем тебя беззащитным помещении. Начать шоу с трудной песни под аккомпанемент пианино, находившегося более чем в 15 футах от нее. Прибавьте и то, что она полностью зависела от федеральной зарплаты и никогда прежде не выражала своих политических взглядов".
Юная Олив Стэнтон запела из зала арию Молли, к ней постепенно присоединились остальные актеры — так спектакль состоялся.
Еще не закончился романтический период "нового курса": проблемы удалось решить за два дня. ФТП отправил актеров в двухнедельный отпуск — теперь они могли выступать как частные лица. Нашлись спонсоры. Хаусман вдвое поднял цену на билеты. Опьяненные первым, беззаконным, представлением, актеры продолжали петь из зала.
Такое не забывается во всех смыслах слова. Перед Уэллсом открылась дорога в Голливуд, где он и оставался, пока его не вынудила эмигрировать в 1947-м охота на ведьм. Хаусман во время войны создал "Голос Америки" и ушел в отставку, когда Госдеп отказал ему — в его-то ранге — в загранпаспорте как "подрывному элементу". Блицстайна, эмигрировавшего в конце 1950-х, убил случайный знакомец на Мартинике. Фланаган стала первой жертвой созданной в мае 1938-го комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (КРАД). Выслушав кучу диких обвинений в ее адрес, КРАД в 1939-м закрыл ФТП. А один из конгрессменов обессмертил себя, добиваясь у Хелли ответа, состоял ли в компартии Кристофер Марло.
 Глава седьмая, в которой кинозвезде хватает пяти секунд и пяти нот, чтобы похоронить свою карьеру
Глава седьмая, в которой кинозвезде хватает пяти секунд и пяти нот, чтобы похоронить свою карьеру

Фото: kafaizni.org
Название фильма Лачмана, режиссера без особых творческих примет, исчерпывающе резюмирует суть множества голливудских комедий на модную тему "войны полов". Экранные свадьбы коллег-репортеров срывались из-за того, что или он, или она, или они оба уносились из-под венца на задание, взбудораженные запахом сенсации. 23-летний сценарист Пол Джеррико в "Некогда жениться" чуть освежил избитую схему. Репортер "Ежедневного лезвия" Перри (Ричард Арлен), женящийся перед самым Рождеством на своей коллеге Кей (Мэри Астор), умудряется увернуться от очередного журналистского расследования, но свадьба все равно оказывается под угрозой: владелец газеты, под угрозой увольнения с волчьим билетом, требует, чтобы Перри раздобыл ему козлика для рождественского подарка сынишке. После каскада комических недоразумений мальчик получает, что хочет, а влюбленные воссоединяются.
Лет через пять вице-президент "Коламбии", отвечавший за заграничный прокат, пожаловался, что куда бы он ни продал "Некогда жениться" — в Аргентину, Венесуэлу, Бразилию,— повсюду фильм тотчас же запрещали, мистика какая-то. То ли вице-президент недавно пришел на студию, то ли мировая война затмила в памяти недавнее прошлое, но невинная — невиннее не бывает — комедия, едва была отснята, вызвала не то что скандал, а целую бурю. Даже попытка Эйзенштейна снять в Голливуде революционный фильм "Да здравствует Мексика!" не довела магнатов до такой истерики, в какую они впали в январе 1938-го.

Фото: Vostock-Photo
Виноват в этом был самый дорогой голливудский актер второго плана Лайонел Стэндер (1908-1994). Современным зрителям знакома его физиономия обаятельного громилы. В "Тупике" Романа Полански он — главный из двух грабителей, угодивших в кафкианский капкан. В фильме Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе" он сыграл незабываемого бармена Макса. В Европу, однако, Стэндер переместился не по доброй воле — ему пришлось эмигрировать в период охоты на ведьм.
На путь изгнания Стэндер ступил как раз в 1938-м, хотя слыл в Голливуде незаменимым характерным актером и только в 1935-1936 годах сыграл в 15 фильмах. В шедевре Фрэнка Капры "Мистер Дидс переезжает в город" (1936) он был циничным "дядькой", приставленным коррупционерами к герою-идеалисту, чтобы душить его прекрасные порывы. В фильме "Познакомьтесь с Ниро Вульфом" (1936) — первым и идеальным экранным Арчи Гудвином.
В жизни он тоже был, так сказать, "характерным актером". Горлопан, виртуозный сквернослов и выпивоха, шесть раз женатый отец шести дочерей, он коллекционировал неприятности. Уже в 1970-х Стэндер бахвалился: "Я всегда был возмутителем спокойствия. Я был одним из первых хиппи. Все по привычке думали, что я одет, как обсос, а сейчас я в стиле. Я курил шмаль в Нью-Йорке, когда она еще была разрешена".
В политике он тоже оказался "одним из первых хиппи". Был страстным профсоюзником, стоял у колыбели актерской гильдии. Предотвращая кровавые рукопашные, строил своих граждански активных, но робких коллег в живые цепи, отрезавшие забастовщиков от штрейкбрехеров и наемных бандитов. Находил для фашистов самые смачные слова на митингах Антинацистской лиги Голливуда. И все это продюсеров не смущало. Когда они клялись в конце 1940-х, что не подозревали имярек в членстве в компартии, они врали Конгрессу в лицо. Все-то они обо всех знали, но, если коммунист был талантлив, ему прощалось все. Все, за исключением, как выяснилось в 1938-м, художественного свиста.

Фото: DIOMEDIA
Стэндера сгубил именно свист. В "Некогда жениться" ему досталась колоритная роль фоторепортера, сопровождавшего героев. Вот они доставили козла по назначению и ожидают лифта. И тут Лачману показалась, что пауза "провисает": хорошо бы чем-нибудь заполнить. Чем? Ну пускай Лайонел что-нибудь насвистит. Тот и насвистел: пара тактов "Интернационала" — и почетное место в черных списках. Патрон "Коламбии" Гарри Кон орал, что засудит на $100 тысяч студию, которая осмелится подобрать этого "красного сукиного сына".
Стэндер — да, уникальный "сукин сын". Это надо же: угодить сразу в два черных списка по обе стороны Атлантики. В том же 1938-м его имя украсило геббельсовский список голливудских евреев и антифашистов, чьим фильмам закрыт доступ в Германию.
Без работы он не остался благодаря покровительству "правого" и очень влиятельного комика, великого Гарольда Ллойда, чьи круглые очки и канотье так же хрестоматийны, как котелок и тросточка Чаплина. Но теперь Стэндера снимали несравненно реже и только на ничтожных студиях. Гораздо чаще ему приходили повестки в следственные комиссии. Что ж, не дают играть на экране — он с еще большим наслаждением сыграет в жизни.
За один месяц 1940 года он оказался клиентом большого жюри Калифорнии и КРАД, причем дважды: в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. КРАД расследовала "коммунистическое проникновение" в Голливуд. Жюри увязывало пятилетней давности убийство докера в портовой драке с планами большевиков вырезать богатейших людей США. Этот бред, рожденный, как выяснится, фантазией журналистов Херста, рассеялся в первый же день слушаний. Конгресс снял подозрения с 19 из 20 вызванных голливудцев. Двадцатым был, само собой, Стэндер. Как ему было свойственно, он врывался и к прокурору, и к конгрессменам, не дожидаясь приглашения, зато орать начинал еще в коридоре.
Так оно все и шло, однако в 1951-м актер Марк Лоуренс назвал Стэндера не просто коммунистом — это звучало уже много раз,— а главой партячейки. До какого-то момента даже такое не сулило большой беды. Но после 1950-го, когда вся голливудская десятка получила реальные тюремные сроки, игра пошла всерьез. КРАД предъявила обвинения сотням человек, и воля Голливуда к сопротивлению была сломлена. Голливуда, но не Стэндера. На слушания он явился в смокинге, с початой бутылкой виски и двумя блондинками. Все телекамеры тут же развернулись к нему, проигнорировав позировавших членов КРАД. Страшнее оскорбить людей, травивших звезд — не в последнюю очередь — в порядке саморекламы, было невозможно.

Председатель комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Гарольд Вельде на открытых слушаниях комиссии в Нью-Йорке в 1953 году грозит актеру Лайонелу Стэндеру, отказавшемуся отвечать на вопрос, состоял ли он в коммунистической партии
Фото: AP
Когда начался собственно допрос, полупьяный хулиган оказался едва ли не самым юридически подкованным, логичным и отважным обвиняемым, если не обвинителем. Разобрав по косточкам "фашистскую" практику КРАД, он отказался сотрудничать с комиссией: "Я не стыжусь ничего, что говорил, публично или в частной беседе". А потом еще и вчинил Лоуренсу иск о клевете. Других средств бороться не оставалось, и вскоре Стэндер отбыл в эмиграцию, затянувшуюся на 28 лет.
Самое смешное, что Стэндер в компартии таки не состоял: его не приняли за экстремальную левизну и столь же экстремальную недисциплинированность. Зато активнейшим партийным работником был Джеррико, но на рабочем месте он никогда не позволял себе никаких "интернационалов".
 Глава восьмая, в которой нацистский консул отменяет демократию в Голливуде
Глава восьмая, в которой нацистский консул отменяет демократию в Голливуде

Сотрудники киноиндустрии, выбравшие в столкновении с охотниками на ведьм путь не сопротивления, а покаяния, оправдывали свои связи с коммунистами так: они, дескать, бросились в объятия компартии, потому что их напугал фашизм. Тут много лукавства: в основном они вступали в компартию в 1937-1938 годах, когда коммунизм стал в Голливуде последним криком моды, и следовали многие из них именно моде. Вообще-то, чтобы ужаснуться фашизму, не требовалось ждать так долго: в Голливуде он правил бал с марта 1933 года, когда немецким консулом в Лос-Анджелесе стал Георг Гисслинг.
Одним из первых просмотренных консулом на посту фильмов оказался "Взят в плен" "Метро-Голдвин-Майер" — о янки в немецком плену. Консул счел его "германофобским" и потребовал купюр. MGM царственно проигнорировала его. Гисслинг сделал оргвыводы: хит MGM "42-я улица" не пустили в Германию. После чего Гисслинг в Голливуде сделался столь же могуществен, как и верховный цензор Джозеф Брин, портновским сантиметром измерявший длину юбок у актрис. Все сценарии, касавшиеся Германии, проходили дополнительную цензуру Гисслинга. Об антифашистском кино не могло быть и речи. Больше того: с экрана исчезли персонажи-евреи, само слово "еврей" оказалось под запретом.
"Ничего личного, только бизнес". Германия была для Голливуда вторым — после Великобритании — иностранным рынком, с его хозяев следовало сдувать пушинки. Только "Уорнер" и "Юнайтед артистс" нашли в себе силы пожертвовать Германией. У прочих онтологических претензий к Гитлеру не было. Сценарист Эдвард Ходоров утверждал: "Если бы Гитлер не набросился на евреев, Майер был бы его лучшим другом, поскольку был еще большим фашистом, чем он". Но и на евреев Майеру было плевать. В июне 1939-го он орал на звезду Мирну Лой, в Амстердаме "распустившую язык" на тему нацистских бесчинств. "Я так взбесилась, что едва не начала плеваться. Я там борюсь за евреев, а они мне велят заткнуться, потому что сделали в Германии еще не все деньги". Лой не знала, что представитель MGM в Австрии — в интересах бизнеса — развелся с еврейкой, которая вскоре, как это и предполагалось, погибла в концлагере.

Георг Гисслинг и Элли Байнхорн, Лос-Анджелес, 1934 год
Но некоторая правда в словах киношников о запоздалом ужасе перед фашизмом все же есть: часто для того, чтобы по-настоящему ужаснуться фашизму, надо, чтобы он постучался буквально в твою дверь — так, как в 1937-м случилось со Скоттом Фицджеральдом.
MGM взялась за экранизацию "Трех товарищей" Ремарка. Продюсер Джозеф Манкевич, недовольный первой версией сценария, поручил его переработку Фицджеральду, пытавшемуся исправить свое отчаянное финансовое положение голливудской поденщиной. Его версия звучала как антифашистский манифест, но показалась Манкевичу слишком сложной: "Меня поносят за то, что я переписал диалоги Фицджеральда. Но что мне оставалось делать! Актеры не могли бы их выговорить". Поэтому понадобился третий сценарист, который вылечил текст от литературности и психологизма — идеология в результате стала еще более выпуклой.
Тут в дело и вступил Гисслинг, который при активном содействии Брина и Майера изуродовал "Трех товарищей" до неузнаваемости. Время действия они велели опрокинуть из конца в начало 1920-х, что позволяло убрать тему нацизма, свастики, костры из книг. Под диктовку Гисслинга, взбешенного словами о борьбе за "демократическую, свободную, новую Германию", Майер приказал "удалить упоминания о демократии". И все было исполнено.
Показательна история с одним из монологов фильма. Несчастного вида старик, услышав, как один из героев говорит: "Германия — гниющее, истлевающее тело", дает отповедь: "Ой, не говорите так. Я люблю свою страну. Мамочка и я, мы отдали Германии двух сыновей. Одного убили в Польше, другого на море. Все хорошо. Я не жалуюсь. Теперь Германия слишком бедная, чтобы прокормить меня и мамочку после войны,— но все хорошо. И вы знаете почему? Потому, что Германия остается моим фатерландом. Она по-прежнему защищает меня и мой народ. Я, знаете ли, еврей".
Манкевича, сына немецких евреев, в прошлом берлинского корреспондента Chicago Tribune, взбесило это юродство: "Он не называет жену "мамочкой",— втолковывал он Фицджеральду.— Он не носит бороду, он так не изъясняется. Он не преисполнен жалости к себе". Переписанный Манкевичем монолог звучал так: "Прошу вас, не говорите так. Конечно, нам было очень горько потерять сыновей, но ведь это ради фатерланда — ради нашей страны. Потому что Германия дала нам нечто большее, чем все, что мы можем отдать ей взамен. Дом. Мир и безопасность. Видите ли, мы — евреи". Но Гисслинг передал через Брина: "никаких евреев!" И монолог получил следующий финал: "Дом и безопасность. Страну, которой всегда можно гордиться".
Аппетиты Гисслинга, однако, росли, и в конце концов он захотел, чтобы фильм осрамил коммунистов. И тут Манкевич не выдержал. Швырнув сценарий на стол, он вылетел из кабинета Майера, прорычав, что расторгает контракт. Он был слишком влиятельным продюсером, чтобы MGM могла позволить себе его потерять, так что Гисслингу пришлось ограничиться уже достигнутым, но, не вспыли Манкевич, Майер охотно доправил бы сценарий до геббельсовского эталона.
А что Фицджеральд? Нервный, совестливый, старый мальчик эпохи джаза, автор рвущейся, как паутинка, прозы. Измученный пьянством, безумием жены, безденежьем, поденщиной.
Его считают аполитичным, биографы охотно цитируют его слова: "Решение окончательно принять коммунизм, как бы благодатно ни было для души, неизбежно представляет печальнейший процесс для любого, кто вкусил интеллектуальных удовольствий мира". Но могла ли неизбежность печали испугать его — или логика его творчества подразумевает выбор печали? Он писал дочери: "Прочти страшную главу "Капитала", посвященную рабочему дню, и проверь, сможешь ли ты остаться такой же, как прежде". В его библиотеке были "Коммунистический манифест", программа Коминтерна, "Пролетарская революция и ренегат Каутский" Ленина. В 1932-1934 годах он предоставлял свой дом в Балтиморе для партийных. Да, говорят биографы, он немного увлекался, но порвал с партией из-за вмешательства в творчество и расового вопроса: он, ну, недолюбливал негров. Но история с "Тремя товарищами" пробудила в нем, как сказал бы Ленин, "коммунизм чувств".
"Скотт был в ужасном состоянии. Мне говорили, что он готов был вступить в компартию". С тех пор как писатель Говард Фаст рассказал об этом, появились категоричные свидетельства: Фицджеральд в партию вступил. Смерть в 1940 году спасет его от черных списков. А вот либерала Манкевича "красные" поставят в 1950-м — в надежде на его бойцовские качества — во главе Режиссерской гильдии. Он скажет много правильных слов, заклеймит маккартизм, но, едва заняв пост, обяжет режиссеров письменно поклясться в верности американизму.
 Глава девятая, в которой Далтону Трамбо приходится отвечать и за Молотова, и за Риббентропа
Глава девятая, в которой Далтону Трамбо приходится отвечать и за Молотова, и за Риббентропа

Канн-1971 стал триумфом голливудских коммунистов. Золото завоевал "Посредник" политэмигранта Джозефа Лоузи. Гран-при и приз ФИПРЕССИ — "Джонни взял ружье", единственная режиссерская работа 65-летнего Дальтона Трамбо, сценариста, отсидевшего по делу голливудской десятки и — о чем тогда никто не догадывался — дважды завоевавшего "Оскара" (в том числе за "Римские каникулы") под псевдонимами.
"Джонни" — величайший антивоенный фильм в истории кино — и фильм немыслимый. У романа Трамбо "Джонни получил винтовку" чудовищный, натуралистический сюжет, казалось бы, неподвластный экранизации, а на экране нет и намека на натурализм. Действие разыгрывается в голове у солдата Джонни, ушедшего на Первую мировую потому, что "так надо, когда Родина в опасности", и изувеченного в последний день войны. Его послали на ничейную землю убрать труп, зловоние которого раздражало полковника. Теперь у Джонни нет ни рук, ни ног, ни лица. Остались только разум и желания. В видениях его навещают отец, подруга, Иисус, у которого нет ответа ни на один вопрос потому, что Джонни не может ни о чем спросить. В жизни с ним ухитряется наладить "диалог" медсестра. Джонни молит убить его или выставить на всеобщее обозрение, чтобы все поняли, что такое война. Но власть изолирует героя, обрекая на вечные муки.
Роман увидел свет в 1939 году, лучшем в карьере Трамбо. Писать он начинал по ночам, работая — кризис разорил его семью — в пекарне (в пекарне работал и Джонни). Первая же публикация принесла вызов в Голливуд. В 1936-м беспартийный коммунист Трамбо (отношения с партией он оформит в 1943-м) попал "навечно" в черные списки за профсоюзную активность, но времена были вегетарианские, вечность продлилась три месяца. К 1939-му он стал самым дорогим сценаристом Голливуда, стоил четыре тысячи долларов в неделю, а его средний гонорар составлял 75 тысяч. В 1938-1939 годах его имя появилось в титрах восьми фильмов, театры ставили его пьесы, он счастливо женился на 22-летней официантке Клео.
Едва ли ни единственный из сценаристов, он входит — благодаря "Джонни" — в пантеон большой американской литературы. В 1940-1941 годах роман дважды читали по радио. Кэрол Ломбард и Кларк Гейбл приобрели 97 экземпляров книги и послали их президенту и сенаторам. Уильям Холден загорелся идеей экранизации, но натолкнулся на отказ Paramount. И это большая удача — трудно представить, что оставил бы от шедевра Голливуд образца 1941 года. Еще труднее понять, почему роман вызвал в тот момент шквал издевок в прогрессивной, но некоммунистической прессе, и почему в 1950-х она служила доказательством лицемерия красных.
"Джонни" не повезло. Журнальная публикация началась 3 сентября 1939-го, через два дня после начала войны и через десять дней после советско-германского договора. Коминтерн предписал сменить тактику: не призывать к революционной войне с фашизмом, а осуждать войну как империалистическую и препятствовать втягиванию в нее США. Лидер компартии Ирл Браудер сопротивлялся, но через два месяца сдался.
Справедливости ради отметим, что так же радикально сменили тактику и оппоненты коммунистов. Так, еще в 1936-м прославленный Роберт Шервуд написал яростно пацифистскую пьесу "Восторг идиота". А уже весной 1940-го вышла его пьеса "Да сгинет ночь", герой которой, финский ученый, нобелевский лауреат Каарло Валконен защищал родину от штурмующих линию Маннергейма солдат вермахта, переодетых в красноармейскую форму. Шервуда в лицемерии никто не обвинил, а Трамбо десятилетиями пришлось объясняться: "Для меня и для человечества кровь германских солдат так же драгоценна, как кровь финнов, русских, французов, англичан или поляков".
Немаловажную роль в том, что коммунисты в одночасье стали "пацифистами", играло то, что начавшаяся война казалась дурным дежавю Первой мировой. А страшнее ее для "потерянного поколения" и его "детей" не было ничего. "Я вспоминаю кое-какие сочинения, предшествовавшие нашему вступлению в прошлую войну, и мне ненавистна мысль, что я окажусь в числе людей, которые пишут подобное,— кстати, многие из тех писателей теперь ненавидят себя. Мы живем в эпоху столь отвратительных компромиссов, что лишь немногие выйдут из нее, сохранив свою честь. Что касается меня, то я вижу достойных, безмерно талантливых и глубоко искренних — не чета мне — людей, которые компрометируют себя, разделяя господствующие чувства, потому что откровенно напуганы. Я полагаю, они горько пожалеют о своей позиции. Я полагаю, многие из них уже погубили себя. И я не могу присоединиться к ним",— писал Трамбо в феврале 1941-го.
Ну а потом случились 22 июня 1941-го и Перл-Харбор — и Трамбо запретил републикацию и продажу "Джонни" до победы: пацифизм снова стал неуместен. Коммунисты пытались перещеголять всех в своем патриотизме, желание помочь родине перечеркивало все нормы партийной (если не человеческой) этики, включая табу на контакты с охранкой. И умница Трамбо — опять в связи с "Джонни" — совершил откровенную глупость.
В конце 1943-го он, по его словам, "Получил несколько прелестных писем, обличающих интернационал евреев, коммунистов, "нью-дилеров" и банкиров, наложивший запрет на "Джонни". Авторы предлагали организовать — со мной в качестве чирлидера — общенациональный митинг за немедленный мир, пообещали развязать кампанию писем моему издателю с требованием переиздания "Джонни"".

Дальтон Трамбо на слушаниях комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, 1947 год
Трамбо вообразил, что в переписку с ним вступила целая нацистская сеть. Коммунисты не пишут в ФБР, коммунисты не зовут агентов ФБР к себе домой. Трамбо сделал и то и другое. "8 января 1944-го я провел два замечательных часа с двумя юными джентльменами, которых необычайно интересовало, какие книги я читаю, какие журналы выписываю и где за границей побывал, особенно бывал ли я в СССР. Когда они уходили (начисто забыв о письмах и ничего по их поводу не записав), они предложили мне связаться с ними, если я "поменяю свои убеждения"",— вспоминал он.
Может быть, он надеялся, что демонстративное сотрудничество с ФБР ускорит отправку на фронт, которой он тщетно добивался: коммунистов в действующую армию, хотя, становясь под ружье, они выходили из партии, старались не допускать. Во всяком случае Трамбо своего добьется — и в 1945-м отправится военкором на Тихий океан. Историки пользуются этим эпизодом, чтобы заменить легенду о Трамбо, герое и жертве, легендой об осведомителе ФБР. Что ж, доносчиком он был, но единственный донос написал на самого себя: "юные джентльмены" зарезервировали ему место главного обвиняемого по делу десятки.
 Глава десятая, в которой деревня Чайковское поет, пляшет и готовит «коктейли Молотова»
Глава десятая, в которой деревня Чайковское поет, пляшет и готовит «коктейли Молотова»

В октябре 1942-го Variety иронизировал: "Война пропустила привычный образ московитов через центрифугу, и они вышли оттуда чисто выбритыми, вымытыми, трезвыми, добрыми семьянинами, членами "Ротари-клуба" и масонами 33-й степени". Критик не преувеличивал. Острое ощущение зависимости судьбы США от "дядюшки Джо" и солидарность с СССР не могли не породить моды на Советскую Россию.
Самые экстравагантные из "советских" проектов остались на бумаге: "Человек, который остановил Гитлера" с Орсоном Уэллсом в роли Сталина или, например, "реалистическая аллегория" "Буря на Западе" по сценарию Синклера Льюиса — ковбоям-нацистам противостояли ковбои — вожди антигитлеровской коалиции, включая Джоэля Славина (Сталин), ветерана Гражданской войны из Джорджии, живущего в доме, некогда принадлежавшем "старику Николасу".
Но и тех десяти фильмов, что были сняты, хватило комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (КРАД), чтобы раздуть тему "захвата коммунистами" Голливуда и начать свои слушания в октябре 1947-го с суда над ними. Центральное место было отведено "Песни о России" "белоэмигранта" Грегори Ратоффа.
Простая колхозница-пианистка Надя Степанова уговаривает дирижера гастролирующего в СССР Манхэттенского симфонического оркестра Джона Мередита выступить на ежегодном музыкальном фестивале в деревне Чайковское. Это — Любовь. Джон и Надя открывают для себя Москву в ее модернизированном великолепии. Чайковское — волшебное место, где мудрая древность Руси переплетается с пафосом коммунистического строительства. Но фестиваля не будет: Чайковское сметено с лица земли фашистами. Чайковцы внимают Сталину, объявляющему стратегию выжженной земли. Джон прорывается к партизанам, где Надя учит детей смешивать "коктейли Молотова". Он хочет остаться воевать, но бойцы убеждают их с Надей рассказать США правду о борьбе советского народа.
Приглашенная КРАД в 1947-м писательница Айн Рэнд, считавшаяся экспертом по СССР в силу своего петербуржского происхождения, не оставила от "Песни" камня на камне. Где это видано: наманикюренные трактористки и духовые оркестры чуть ли не в каждой избе. Однако те же претензии можно предъявить любому голливудскому фильму из чужедальней жизни. Майер искренне изумлялся упрекам в незнании советских реалий: черт возьми, я китайские реалии, что ли, знаю, но фильмы о Китае снимаю — и ничего.
Гораздо сокрушительней оказались другие обвинения — те, что были обусловлены тоталитарным складом ума Рэнд, теоретика "американизма", ненавистницы коллективизма и "маленьких людей", обожествлявшей капитализм. Она заявила, что фильм лжив, поскольку советских людей "романтические отношения не волнуют — нет ничего, кроме еды и страха". В фильме показаны смеющиеся дети, а советские люди никогда не улыбаются. Тут уже несколько удивился даже член КРАД сенатор Макдауэлл, видевший в СССР улыбающихся и даже смеющихся граждан. Рэнд отмела его возражения: ему, свободному человеку, не понять жизни при тоталитаризме. Соображения о союзнической стратегии военного времени она походя отмела: лучше было вообще ничего не говорить о русском союзнике, чем снимать "Песнь".
Позиция Рэнд восторжествовала. И то правда: одного списка сценаристов "Песни" — и любого фильма "советского цикла" от "Миссии в Москву" до "Северной звезды" — достаточно, чтобы поверить во всевластие "красных". Над фильмом корпели целых три коммуниста (Пол Джеррико, Гай Эндор, Ричард Коллинз) и три "безродных космополита", беженцы-антифашисты Лео Митлер, Виктор Тривас и Борис Ингстер. Финальный глянец наводил коммунист Джон Уэксли, консультировала студию журналистка Анна Луиза Стронг, которая вообще была московской корреспонденткой еще с 20-х годов.
Штука в том, что коммунисты были причастны к "советскому циклу", а компартия — нет. Фильм был самой что ни на есть американской пропагандой. После вступления США в войну Рузвельт исполнил свою мечту и поставил Голливуд под жесткий госконтроль. И на этом этапе исторической реальности Вашингтон предписывал "бороться с ложью о России, подчеркивать силу и героизм русских", исходя из почти мистического указания: "мы, американцы, отвергаем коммунизм, но не отвергаем наших русских союзников". Кино декоммунизировало Россию, а не коммунизировало Голливуд.
Еще во время работы над фильмом Джеррико изливал душу в письме к Коллинзу: "Майер не хочет просоветских фильмов. Русские — это годится, но когда вы думаете о Германии, вы думаете о нацизме, когда думаете об Италии — о фашизме, когда думаете о России — о коммунизме. Все знают, что после войны коммунизм станет нашей самой большой проблемой. Майер делает кино, чтобы держатели акций делали деньги, а не торгует идеями. Невзначай, но настойчиво Манкевич подчеркнул, что сценарий не о коммунизме, а о людях. О людях, как мы, людях, которых вы можете полюбить. Майера это не убедило. Русские не как мы. Они — коммунисты. Американцы — нет. Ратофф сказал, что это великая история Любви с большой буквы Л. Чудовищно. Я возненавидел его. Он все убил, но Майеру, кажется, понравилось".
Студии поручали сценарии коммунистам не за то, что они были коммунистами, а потому, что к этому моменту в компартии состояли лучшие сценаристы. В любом случае их вклад растворялся в финальном продукте коллективного голливудского разума. "Песнь" прошла через руки одиннадцати писателей.

Айн Рэнд дает показания комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, 1947 год
Фото: The LIFE Images Collection/Getty Images
Сценарий прошел экспертизу и в советской миссии. Но к ее замечаниям Голливуд относился пренебрежительнее, чем к мнению нацистского консула Гисслинга в 1930-х. Пустячные поправки (ввести в фильм представителя трудовой интеллигенции) принимались, но не предложения по существу: Наде так и не довелось разъяснить Джону смысл советско-германского договора.
Джеррико вспоминал: "Майер сказал, что не должно быть никакой коллективной фермы; это должна быть частная ферма. Мы сказали, что в СССР таких не существует. Он сказал: "Почему это не может быть просто ферма отца Нади?""
Майер выкинул из сценария слова "коммунизм" и "колхоз". Слова "коллектив" и "СССР" прозвучали однажды — в тексте партизанской клятвы. Только слово "товарищ" проскочило несколько раз.
Самым трезвым свидетелем КРАД оказался яростный антикоммунист сценарист Макгиннес: "Я никогда не воспринимал фильмы о Советском Союзе чересчур серьезно, поскольку они были сняты во время войны. Я относился к ним как к форме интеллектуального ленд-лиза".
Наивный пафос — "русские — люди, как мы" — наивен на современный взгляд. Но насаждавшийся четверть века сатанинский образ большевиков-русских Голливуд мог перебороть только одним доступным ему способом: изобразив их ангелами во плоти. "Правду жизни" в классическом Голливуде искать заведомо бессмысленно. Но единственными, кто поплатился за ее вопиющее отсутствие, оказались сценаристы "советского цикла", угодившие в черные списки.
 Глава одинадцатая, в которой «очень опасный гражданин» преподает конгрессменам урок патриотизма
Глава одинадцатая, в которой «очень опасный гражданин» преподает конгрессменам урок патриотизма

«Вы что, общественный строй хотите свергнуть?» — осведомились продюсеры у Полонски, прочитав сценарий "Силы зла", мощного, но вроде бы канонического нуара. Любой нуар — история нисхождения в ад, этот путь предстоит и Джо Морсу (Джон Гарфилд), юрисконсульту криминального синдиката, контролирующего нью-йоркские лотереи. Джо невменяем от алчности: еще несколько часов — и он, уличный мальчишка, заработает первый миллион. Остается крохотное препятствие: одна лавочка не желает вступать в синдикат. Беда в том, что владеет ею старший брат Джо, выведший его в люди. Отрезвление придет, когда Джо найдет под стальным мостом через Ист-Ривер (один из прекраснейших кадров в истории Голливуда) тело брата.
По настоянию продюсеров сам Джо не погиб, а дал показания против синдиката, но в основном они были правы. Криминальное подполье — метафора капитализма, Уолл-стрит навыворот. "Весь криминальный жанр о капитализме, потому что весь капитализм — это о криминале",— декларировал Полонски, и в этом был не одинок. В черных списках режиссеров было ничтожно мало, но почти все, кто в них угодил,— Джон Берри, Жюль Дассен, Эдвард Дмитрик, Джозеф Лоузи, Фрэнк Таттл, Сай Эндфилд — мастера именно что нуара в его самом безысходном, социально-критическом варианте.
От товарищей по несчастью Полонски отличался тем, что дал комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (КРАД) оглушительный щелчок по носу, публично унизил ее — и ничего ему за это, кроме неминуемых черных списков, не было. Секрет заключался в его военном прошлом.
Осведомители ФБР характеризовали Полонски (1910-1999), открытого коммуниста, бывшего профсоюзного организатора и адвоката, стремительно взошедшую в конце 1930-х литературную звезду, как "одного из самых блестящих людей в коммунистическом движении" и прочили столь же блестящую кинокарьеру. Он рвался в бой с фашизмом, но в армию его не взяли по зрению. Не беда: брат привел его в интереснейшую контору — Управление стратегических служб (УСС), прообраз ЦРУ, созданную генералом Уильямом "Диким Биллом" Донованом. "Билл из тех парней, которым ничего не стоит прыгнуть с парашютом во Францию, подорвать мост, нассать люфтваффе в бензобак, а потом станцевать на крыше отеля Saint Regis с немецкой шпионкой",— говаривал великий Джон Форд, тоже работавший на УСС.
Донован, интеллектуал, стратег и ловелас, питал давнюю ненависть к Гуверу, шефу ФБР. Тот отвечал ему взаимностью: ФБР шло против УСС на провокации, граничившие с изменой родине. Особенно возмущал Гувера кадровый состав УСС. Его оперативные службы, как и Департамент военной информации, кишели "красными", включая настоящих "поэтов динамита", прошедших Испанию. Один из них, Ирвинг "Адонис" Гофф, прототип Роберта Джордана из "По ком звонит колокол", отвечал за связь УСС с итальянскими партизанами-коммунистами и создал беспрецедентно густую агентурную и диверсионную сеть, буквально поднявшую на воздух Северную Италию.
Боже упаси, Донован, бывший офицер связи при штабе Колчака, "красным" не был. Как не был и мафиози, хотя привлек к работе, когда этого требовали интересы страны, пресловутого Лаки Лучано. Профессионалы-прагматики тайной и психологической войн, в отличие от армейцев, доверяли "красным", обладавшим качествами, бесценными для такой работы. Твердокаменные антифашисты, опытные пропагандисты, они находили самую верную интонацию для листовок и радиопередач. Владея — в той или иной степени — азами конспирации, располагая коминтерновскими связями, были готовы к работе в тылу врага.
Полонски в УСС подвергли вполне "киношному" экзамену: заперли в некоем доме и велели сбежать оттуда: срок — полчаса, время пошло. Выбив окно и спустившись с третьего этажа, Полонски уложился в норматив и был допущен к занятиям с пластической взрывчаткой. В УСС он отвечал за переброску оружия французскому Сопротивлению. Дослужившись до майора, высаживался в Нормандии, освобождал Париж, но храбрых солдат больше, чем талантливых режиссеров. А Полонски уже был режиссером: его первый шедевр — война в эфире, которую он вел на частотах немецкого радио. Перед войной он успел поработать с Орсоном Уэллсом и творчески поставил опыт его радиоспектакля "Война миров", как бы онлайн-репортажа о высадке марсиан, вызвавшего национальную панику, на службу дезориентации противника.
Полонски вел "репортаж" из некоего города на Рейне, где якобы вспыхнуло антифашистское восстание: бургомистр взывал к союзникам о помощи на фоне изящных звуковых эффектов, имитировавших уличный бой. Полонски "интервьюировал" "Рудольфа Гесса" и транслировал призыв к вермахту восстать против фюрера, с которым "из надежного места" выступал "генерал Бек", застрелившийся участник заговора против Гитлера. В общем, развлекался как мог.
После демобилизации контракт с ним подписала студия "Парамаунт", но, не дождавшись достойной работы, Полонски ушел на независимую студию Гарфилда. Прославился номинированным на "Оскар" сценарием боксерского нуара Роберта Россена "Тело и душа" (1947). Второй — после "Силы зла" — фильм он поставит через 21 год. Карьеру оборвал вызов на допрос в КРАД (25 апреля 1951-го), попытавшуюся залезть в его засекреченное прошлое.
"Конгрессмен Уолтер: Кто рекомендовал вас в УСС?
Полонски: Я не хочу отвечать на этот вопрос — и не отвечу, пока Комиссия не сумеет меня заставить. Хотя я не поддерживаю контактов ни с кем из сотрудников этой организации, я думаю, что они еще могут работать на разведку США и их имена никому не следует знать.
Уолтер: Вас же не на лету поймали. Кто-то из УСС связался с вами.
Полонски: Меня кто-то рекрутировал.
Уолтер: Кто вас рекрутировал?
Полонски: Один из джентльменов, которых я имел в виду.
Уолтер: Как давно вы знали этого человека?
Полонски: Я его вовсе не знал до того дня.
Уолтер: Кто-то совершенно вам незнакомый приходит и спрашивает, не хотели бы вы поработать на УСС, так?
Полонски: Мне он был тогда незнаком.
Уолтер: Как ему удалось узнать, что вы годитесь для работы в УСС?
Полонски: Я не хочу отвечать ни на какие вопросы об этом, сэр, пока комиссия не соизволит взять на себя ответственность, потому что, хотя, покидая УСС, я и не давал клятву не говорить ни о чем таком, существуют моральные обязательства".
Уязвленный председатель КРАД Вельде мог в отместку лишь назвать Полонски "очень опасным гражданином", на что жена режиссера отреагировала скептически: "Опасным? Разве что для самого себя". В принципе, то же самое можно сказать обо всех американских коммунистах.
 Глава двенадцатая, в которой десять коммунистов исполняют главные роли своей жизни
Глава двенадцатая, в которой десять коммунистов исполняют главные роли своей жизни

Берри представляет их как авторов военно-патриотических фильмов и примерных семьянинов. Рассказ о каждом завершается одинаково: "Сейчас он находится в федеральной тюрьме". Несколько раз звучит и фраза Бибермана: "Это зависит от всех нас". Под "этим" подразумевается судьба гражданских свобод, которую дело "десятки" поставило под сомнение.
Когда расправа над инакомыслящими будет поставлена на конвейер, сценарист Бесс Тэффел скажет фельдъегерям, доставившим розовую повестку на допрос в КРАД: "Вы принесли мою смерть". Но, когда в Голливуд пришли первые повестки, никого из адресатов траурные мысли не посетили. За девять лет существования КРАД они привыкли, что воздух сотрясают угрозы разгромить "коммунистический заговор в Голливуде". Их не смутило, что за осуждением коминтерновца-журналиста Герхарда Эйслера, сумевшего бежать в Европу, последовало преследование его великого брата, "Карла Маркса от музыки" Ганса Эйслера, работавшего в Голливуде. Не смутили и тюремные приговоры за участие в правозащитных организациях писателям Говарду Фасту и Дэшилу Хэммету.
Они просто не заметили, как изменились США. После смерти Рузвельта начался ползучий госпереворот против всего наследия великого президента, включая принцип мирного сосуществования. Сила "красных" таилась не только в умении ногами открывать двери Белого дома, но и в разобщенности их врагов — враги научились объединяться. Сначала ФБР ненавидело КРАД: дилетанты путались под ногами профессионалов сыска. Теперь сам Гувер явился в КРАД, где призвал к запрету компартии. Антикоммунисты Голливуда еще в 1944-м объединились в Лигу защиты американских идеалов. Конгресс контролировали республиканцы. Из Госдепа вычистили адептов "нового курса". Голливудские профсоюзы были разбиты в кровавых стачечных боях. Численность партии упала вдвое (до 50 тысяч) после ее безумного роспуска (1944-1945) генсеком Браудером, уверовавшим в конвергенцию социализма и капитализма.
Словосочетание "голливудская десятка" — назойливый мем. Мало кто помнит, что КРАД вызвала, помимо 24 "дружественных", не десять, а 19 "недружественных" — читай: обвиняемых — свидетелей. Восемь из них так и не допросили: то ли КРАД была не уверена в реакции общества, то ли, напротив, сочла общество вполне напуганным. Допросу, помимо "десятки", подвергся хитроумный Бертольт Брехт — сбежав и от Гитлера, и от Сталина, на сей раз он полагал, что влип всерьез. Он честно отрицал членство в партии, но инкриминировать ему можно было все творчество беспартийного большевика. Брехт разыграл чудаковатого трепача, сетовал на журналистов, сочинявших интервью за него, на дурные переводы, превратившие невинные стихи в крамолу. Его спрашивали об одной пьесе — он пересказывал другую. Вырвавшись из объятий утомленной КРАД, он тут же улетел в Европу.
Детали слушаний 20-30 октября 1947 года хорошо известны.
Создание 500 либералами — от Синатры до Граучо Маркса — комитета в защиту первой поправки, гарантирующей свободу слова и убеждений,— последняя судорога Народного фронта. Вылет 30 из них в Вашингтон на самолете, арендованном антикоммунистом Говардом Хьюзом. Поспешное предательство многими из них — прежде всего Богартом — осужденных коллег при первом намеке на неминуемые профессиональные проблемы.
Театрализованная атмосфера слушаний. Столпотворение съемочных групп. Телефонные справочники, подложенные в кресло председателя КРАД Парнелла Томаса, дабы он казался выше ростом. Дамские истерики при явлении Роберта Тейлора и Рональда Рейгана. Первые имена предполагаемых коммунистов, неуверенно названные "дружественными" свидетелями. Дружный отказ "десятки" отвечать — на основе первой поправки — на вопросы, состоят ли они или состояли в компартии и (верх абсурда) в Гильдии сценаристов. Легендарный ответ Ларднера: "Я мог бы ответить, но тогда я наутро возненавижу самого себя". Их выдворение из зала приставами. Передача в суд их дела по обвинению в оскорблении Конгресса. Предательство продюсеров, пообещавших — в тщетной надежде, что Голливуд оставят в покое,— лично очистить его от "красных". Расторжение контрактов с "десяткой" было беспрецедентно, но беспрецедентно было вообще все происходившее.
Невероятно, но в ожидании приговора коммунисты предавались любимому занятию — борьбой друг с другом: бурно обсуждали, кто из них поступился принципом социального реализма. В их защиту выступили Британская киноакадемия, Союз французских киноработников, Эйнштейн, Томас Манн, неореалисты, Бернард Шоу, Жолио-Кюри, проводились акции светской солидарности. Они тем временем продавали свои особняки и переходили на жизнь взаймы.
Верховный суд подтвердил, что апелляция к первой поправке преступна: "десятку" приговорили к заключению сроком от полугода до года и штрафам. Загранпаспорта Дмитрика и Скотта, искавших работу в Европе, аннулировали, их грубо депортировали в США. Проиграв апелляцию в Верховном суде, два либеральных члена которого как на грех скоропостижно скончались, "десятка" отправилась в июне 1950-го за решетку. Фильм Берри, автора успешных нуаров,— их прощальный поклон.
Берри вспоминал: "Дмитрик попросил меня снять "Десятку", поскольку собирался в тюрьму и хотел перед этим немного заработать. Мне не очень-то хотелось, поскольку я еще не был ни в чем замешан. Тогда Дмитрик сказал мне: "Я вот иду в тюрьму и считаю, что хотя бы такой пустяк ты мог бы сделать!" "Ладно!" — ответил я. Я сделал фильм и сразу же после узнал, что Эдди донес на меня!"
Фильм остался гласом вопиющих в пустыне, хотя и считается шедевром политического кино. Ларднер и Коул утешались тем, что в соседней камере тянул свои полтора года без права апелляции Парнелл Томас, оказавшийся мошенником: он выписывал родственникам фиктивные зарплаты. На суде Томас — опередив будущих жертв КРАД — отказался от показаний, воззвав к пятой поправке, позволявшей не свидетельствовать против самого себя. Однажды Коул столкнулся с ним: сценарист подстригал кусты, конгрессмен чистил курятник. "Эй, большевик, твой серп я вижу, а куда ты подевал молот?" "А ты, я вижу, занимаешься тем же, чем и в Конгрессе: возишься с дерьмом". Вскоре Томас был полностью прощен указом Трумэна.
 Глава тринадцатая, в которой Джон Уэйн голыми руками трижды побеждает красных киллеров
Глава тринадцатая, в которой Джон Уэйн голыми руками трижды побеждает красных киллеров

Стоило конгрессмену Ричарду Никсону возмутиться отсутствием антикоммунистических фильмов, Голливуд взял под козырек. Отныне на экране комиссарши подпольных курсов диамата забивали насмерть непонятливых студентов ("Красная угроза", 1949). Орды диких калмыков оккупировали США ("Вторжение в США", 1952). Родители-патриоты стучали на детей ("Мой сын Джо", 1952), а жены на мужей ("Конспиратор", 1950). Господь Бог в прямом эфире призывал русских к восстанию ("Красная планета Марс", 1952). Даже на этом фоне сценарий "Большого Джима" заставил взвыть от ужаса шефа аналитического отдела студии "Уорнер": герои нарушали все писаные и неписаные законы, избивали свидетелей, "вели себя как ублюдки". Вызвал у него сомнения и образ психиатра-алкоголика, пытавшегося отторгнуть от США Гавайи (посредством всеобщей забастовки вкупе с распространением смертоносного вируса) и похвалявшегося дружбой с "Джо Сталиным". Студия царственно проигнорировала возражения: "Большой Джим" остался в истории как единственный фильм во славу следователей КРАД, приватизировавших — как и в жизни — полномочия ФБР, ЦРУ и прокуратуры. Да и кто бы посмел поднять руку на фильм, продюсером и главным актером которого был великий Джон Уэйн, с конца 1948-го — глава Киноальянса в защиту американских идеалов.

Джон Уэйн (в центре) рядом с Мемориалом павшим советским солдатам в Берлине, 1956 год
Фото: AP
Что тут сказать: Уэйн оставил о себе черную память. Сценарист-продюсер Карл Форман вспоминал: "Я казался маленьким и хрупким рядом с этим колоссом, этим гауляйтером маккартизма. Он сказал мне: "Форман, вы же профи. Как вы можете состоять в этой коммунистической банде? Если вы будете упорствовать, вашей карьере конец. Никто вам не даст работы. Ваш паспорт конфискуют, мы проследим, чтобы даже за границей вы не нашли работы". Я ответил: "Знаете, ваши методы напоминают методы Гитлера и Сталина". Он озадачился, потом заявил: "С огнем справится только огонь"".
Ладно, Форман — коммунист, что с него взять. Но вот свидетельство антикоммуниста Фрэнка Капры: "Ко мне подошел [актер] Уорд Бонд и спросил, согласовал ли я с Уэйном кандидатуру [актрисы] Энн Ревир, которую подумывал снять. Я не понял, каким боком это касается Уэйна, позвонил ему, напомнив, как он богател в тылу во время войны, и послал ко всем чертям. Мне насрать, кто коммунист, а кто нет. Уэйн взбеленился: "Я бы взял этого сукиного итальяшку, порвал на миллион клочков, выкинул в океан и любовался, как они плывут домой, в Италию"".
Сам Уэйн лишь усугублял свою дурную славу. Если бы только он мог промолчать, когда его спрашивали о черных списках! Но, непосредственный, как все гениальные актеры, он обладал даром в пределах одной фразы опровергнуть самого себя: "Никогда не было никаких "списков". Это все дерьмо лошадиное. Когда Конгресс принял законы, позволившие противостоять этим людям, нас спросили о коммунистах. Ну мы и сообщили им, что знали. Вот и все. Пусть никто не говорит, что допустимо терпеть коммунистов в американском обществе и особенно в нашей индустрии. Мы не хотим иметь ничего общего с предателями".
С другой стороны, Уэйн примкнул к Киноальянсу, буквально вскочив в последний вагон, только в 1947-м, а в годы войны прекраснейшим образом работал с "предателями". Потом он мог сколько угодно расписывать, как на съемках "Возвращения на Батаан" (1945) ставил на место "сталинистов" — режиссера Дмитрика и сценариста Барзмена. Но у них самих о совместной работе остались другие воспоминания. Дмитрик рассказывал: "Он был забавным парнем, конкретно вкалывал. Мы хорошо ладили и даже вели совместные дела через одного бизнес-менеджера". А по словам сценаристки Нормы Барзмен, ее муж и Уэйн просто подружились — не разлей вода. Хлопая Бена по плечу, Уэйн называл его "чертовым коммунистом", а Барзмен ласково аттестовал друга "фашистом": "Уэйн изводил Бена: "Знаешь, сколько мне стоит каждая сигарета по вине вашего человека в Белом доме? Два доллара штука"".
Свое же позднее приобщение к антикоммунистическому "крестовому походу" Уэйн объяснял туманно: "Я предпочитаю бить в свой собственный барабан. Я выполнял кой-какую неофициальную работу под прикрытием, можно так сказать".
Кинозвезда "под прикрытием" — сильный образ. Похоже, Уэйн слишком вошел в образ рыцаря антикоммунизма, соответствовать которому мешал пустяк: богатырь Уэйн, как ни старался, так и не попал не то что на фронт, но даже в бейсбольный взвод, как Рейган. "Дикий Билл" Донован принял было Уэйна в разведку, но генеральское письмо по ошибке ушло на адрес бывшей жены актера, а та из вредности его утаила. Тем временем даже ненавистный очкарик, коммунист-сибарит Трамбо устроился военкором на Тихий океан.
Все можно оправдать гениально просто: Уэйна не видели на фронте потому, что невидим был сам его фронт. Из его окружения разлетались леденящие истории. В Нью-Йорке в 1949-м Сергей Герасимов узнал и доложил Сталину о страстном антикоммунизме Уэйна. Сталин очень огорчился (ведь Уэйн — его любимый актер) и снарядил в Голливуд убийц. ФБР предупредило Уэйна, но от защиты актер отказался: "Я сам". Так ответил бы доброхотам ковбой Ринго Кид ("Дилижанс"), предложи они помочь в схватке с тремя убийцами. Не сказав ни слова семье, Уэйн перебрался в дом-крепость и призвал верных каскадеров во главе с легендарным Якимой Канутом. Друг-сценарист разработал сценарий урока, который предстояло преподать чекистам. Трюкачи захватили их без единого выстрела, побили и вывезли в глухое место, где инсценировали казнь. Затем, во всем своем великолепии, перед заикающимися от страха убийцами явился Герцог, как прозывали Уэйна, и, удостоверившись, что они больше не будут, приказал убираться восвояси. Но те взмолились: смилуйтесь, дяденька, лучше жизнь на каторге, чем смерть на Лубянке. Уэйн сжалился: чекисты получили убежище в США.
Мог ли кто-то подтвердить достоверность этой баллады? Конечно — сам Хрущев в 1958-м сказал Уэйну, что, придя к власти, отменил приказ Сталина. Ведь Уэйн был любимцем и Хрущева тоже. Да и сам Герасимов проговорился Сергею Бондарчуку, тот — Орсону Уэллсу: спросите у Уэллса, а Уэллс подтвердит что угодно.
Одним покушением дело не ограничилось. На съемках вестерна "Хондо" (1953) Уэйна пытались убить мексиканские коммунисты. Поскольку Сталин умер, Уэйн напутствовал схваченных каскадерами убийц: "Если вы так любите своего ненаглядного Сталина, валите к нему". Когда же в 1966 году Уэйн выступал во Вьетнаме, в него стрелял снайпер. Даже несколько снайперов. Одного поймали, и он признался, что награду за голову Уэйна назначил лично Мао. Наверное, Герцог, был и его любимым актером тоже. Хотя скорее это Герцогу страшно хотелось, чтоб его любили и Сталин, и Мао.
 Глава четырнадцатая, в которой жертвы черных списков пугаются своей метафизической свободы
Глава четырнадцатая, в которой жертвы черных списков пугаются своей метафизической свободы

«Свободен наконец. Свободен» — начертано на могиле Мартина Лютера Кинга. Отрешись жертвы черных списков от обрушившихся на них и их семьи бед, они тоже могли бы воскликнуть: "Свободны!" Свободны от голливудского конформизма и лицемерия — обратной стороны карьерного успеха. Вольны снимать кино, не поступаясь убеждениями. Шанс распорядиться этой жестокой свободой предоставляла, как правило, эмиграция, но нет правил без исключений. Черным спискам мировое кино обязано уникальным шедевром. "Соль земли" перекинула мостик от неореализма к политическому кино, облагородила классовую борьбу почти античными страстями.
Запретив в 1950-м студиям владеть кинотеатрами, Верховный суд создал условия для независимой дистрибуции, но эпоха не располагала бизнесменов к метафизической свободе безработных "красных". Впрочем, один безумец нашелся. "Черные списки! Да это же золото под ногами!" — воскликнул продюсер Саймон Лазарус, оценив масштаб погрома, оставившего без работы сотни профессионалов, и учредил в 1952 году Independent Production Inс. Его партнерами стали вышедшие из тюрьмы Герберт Биберман и Адриан Скотт, сценарист Пол Джеррико. Он еще в 1950-м, предчувствуя катастрофу, искал работу для "красных" в Восточной Европе, благо Отто Кац, в 1930-х обративший Голливуд в антифашистскую веру, стал большой шишкой в ЧССР. Однако Каца и других старых коминтерновцев смели кровавые партийные чистки.
Теперь Джеррико мечтал дать 200 жертвам списков работу на родине. Компания собралась отменная. Сценарист Майкл Уилсон получил "Оскара" за экранизацию "Американской трагедии" Драйзера ("Место под солнцем", 1951). Художник Соня Даль-Биберман, композитор Сол Каплан, операторы Стэнли Мередит и Леонард Старк, актеры Уилл Гир, Дэвид Вульф, Мервин Уильямс.
Стартовые 25 тысяч предоставили Лазарус и сочувствующий продюсер, сохранивший анонимность. Профсоюз работников горной и металлургической промышленности заинтересовался проектом документального цикла о рабочих и добавил еще 100 тысяч. Окрыленный Биберман принял волевое решение снимать полнометражный игровой фильм о 15-месячной стачке шахтеров в Нью-Мексико (1950-1952), свидетелем которой он был. Лишь одно мучило его: страх, что за голливудские годы "красные" "разучились рассказывать о реальных людях в реальных ситуациях". Уберечь киношников от отрыва от реальности предстояло горнякам: они исполняли большую часть ролей и придирчиво оценивали варианты сценария.
Несмотря на эту "пролеткультовщину", фильм бесконечно далек от вульгарного агитпропа. Народный контроль гармонично ужился с волевой режиссурой. Биберман вышел за рамки реконструкции событий, сняв пластически мощную трагедию о борьбе "проклятьем заклейменных" с классовым роком. Бунтари то сливаются в "коллективное тело", то солируют. Уже то, что герои — мексиканцы, современники сочли революционным новшеством. Ну а роль женщин в этой истории, как в жизни, так и на экране, всех просто ошеломила — до вторжения феминистских идей в кино оставалось еще лет десять. Политически подкованные горняки в быту оставались латинскими мачо, но их жены и сестры взяли свою судьбу в собственные руки. Когда суд запретил шахтерам пикетировать шахты, их место заняли женщины, и силы правопорядка впали в когнитивный диссонанс, не представляя, как противостоять их вакхическому напору.
В Нью-Мексико Биберману рекомендовали обратиться к 70-летнему Альфорду Россу, владельцу ранчо в тысячу акров, изобретателю, полиглоту, путешественнику, чуть ли не принявшему ислам (правда, предупредили: он такой, может с крыльца спустить, а то и выстрелить). Апостол "джефферсоновских ценностей" мгновенно нашел общий язык с коммунистом. Биберман так передал их диалог.
"Так ты, значит, из этой голливудской банды?" — "Так, сэр".— "В тюрьме сидел?" — "Да, сэр".— "Добро пожаловать, старина, добро пожаловать!"

Участники «голливудской десятки» (крайний справа — Герберт Биберман) и члены их семей протестуют против итогового приговора Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, 1950 год
Биберману казалось порой, что из охваченной "красной паникой" Америки он перенесся в какую-то другую страну. Но это и была незнакомая ему прежде, подлинная, свободолюбивая Америка. Когда "бдительные граждане" пытались буквально смять съемочную группу своими грузовиками, фермеры остановили их выстрелами. Шеф полиции выслал на охрану съемок половину своих людей, а священники по радио призвали прихожан не давать киногруппу в обиду погромщикам.
Зато съемки едва стартовали, как (в феврале 1953-го) Дональд Джексон, член КРАД, заявил, что фильм "разжигает расовую ненависть и выставляет США врагом цветного населения", и разослал десяткам киноворотил телеграмму: "Существует ли какая-нибудь возможность воспрепятствовать окончанию постановки фильма и показу его здесь и за границей?". Виктор Ризель, журналист, обладавший неформальными, бесконтрольными и не подлежащими обжалованию полномочиями доносчика, следователя, обвинителя и судьи в одном лице, предположил, что съемки неподалеку от Лос-Аламоса лишь прикрытие для советского ядерного шпионажа.
В разгар съемок арестовали двух актеров. Клинтона Дженкса, организатора забастовки, игравшего самого себя, обвинили в лжесвидетельстве при подписании сертификата о том, что он не состоит в компартии: его тюремные мытарства тянулись четыре года. Исполнительницу главной роли, мексиканскую кинозвезду Розауру Ревуэльтас выслали из США. Сцены с ее участием пришлось доснимать в Мексике. Получить разрешение на работу там Биберману не удалось. По легенде, спрятавшись в зарослях кукурузы, он руководил Розаурой по рации, а режиссера на площадке изображал подставной мексиканец. Но местные власти конфисковали пленку: не помогло даже заступничество экс-президента и национального героя Ласаро Карденаса, в свое время приютившего Троцкого и испанских республиканцев. Биберман выкрал и спас негатив, но проявлять его отказались все лаборатории: их контролировал антикоммунистический профсоюз. Фильм по частям разослали по мелким лабораториям, а монтировали в туалете заброшенного кинотеатра.
Прокатывать его согласился Grand Theatre на 86-й улице Нью-Йорка, где он продержался девять недель. В Детройте киномеханики саботировали показы, в Чикаго их отменили из-за угрозы взрыва бомбы. В Лос-Анджелесе не пришел ни один зритель — газеты отказались рекламировать фильм. Авторы 18 лет тщетно судились с 72 фирмами, профсоюзами и частными лицами, обвиняя их в нарушении антитрестовского законодательства и заговоре против частной инициативы. Это еще пустяки: до 1965-го "Соль", получившая гран-при в Карловых Варах, не числилась ни в одном американском справочнике. Другого такого "призрака" история не знает, "Соль" оказалась уникальна во всех отношениях.
 Глава пятнадцатая, в которой весь мир ополчился на беззащитную актрису
Глава пятнадцатая, в которой весь мир ополчился на беззащитную актрису

Премьере фильма сопутствовал скандал, доказавший, что страсти 1950-х еще не сданы в архив. Сценарист Абрахам Полонски, сам жертва черных списков, снял свое имя из титров. Его возмутило, что режиссер переделал героя-коммуниста, сценариста Дэвида (Роберт Де Ниро), в либерала, попавшего в жернова КРАД за то, что в 1930-х засветился на паре антифашистских митингов. Что ж: Уинклер заботился о типичности персонажей, а "розовых" было среди жертв КРАД больше, чем настоящих "красных". В 1950 году КРАД, ультраправые организации и ФБР обнародовали — через "сливы" в печати — годами копившийся компромат на шоу-бизнес. Чтобы предстать перед КРАД, было достаточно не то что подписать письмо в защиту Испании или употребить в статье термин "буржуазный театр", а просто выступить на одном концерте с Полем Робсоном.
"Виновен по подозрению" — уникальная энциклопедия голливудской жизни времен охоты на ведьм, коллективный портрет общины, охваченной паранойей. Костры из "подрывных" книг — не метафорическое преувеличение, а еще не самая шокирующая деталь эпохи. Режиссер Джон Берри рассказывал: "Психиатр, лечивший моего друга, убедил его вступить в компартию, сказав, что тот испытывает потребность в борьбе за правое дело. Он вступил, и психиатр вытягивал из него, что происходит в партии, под предлогом лечения. Однажды психиатр сказал моему другу, что тот избавился от своих комплексов и может выйти из партии: "Партия заменила вам мать, пора порвать семейные узы". Мой друг вышел из партии и стал доносчиком. А через какое-то время узнал, что врач работал на ФБР". Самое потрясающее в этой вроде бы "городской легенде" то, что психиатр Фил Коэн превратил в доносчиков дюжину пациентов, в чем признался десятилетия спустя. Один из них - сценарист Дэвид Херц — покончил с собой: летчик-любитель, он направил свой самолет в сторону Тихого океана и летел, пока не кончился бензин.
В фильме кончает с собой актриса Дороти Нолан (Патрисия Веттинг), преданная мужем, лишенная работы, пристрастившаяся к бутылке. Вообще, охота на ведьм разрушила много блестяще начинавшихся карьер. На 12 лет исчезла с экрана 26-летняя Ли Грант, получившая в Канне приз за лучшую роль в "Детективной истории" Уайлера (1951). На 26 лет — 28-летняя Мадлен Ли, ответившая допрашивавшим ее сенаторам: "Слушайте, я — актриса, а не Жанна д'Арк. "Покайся", "исповедуйся", "ты еретик" — этого я не кушаю". Изгнали из Голливуда 35-летнюю хореографа Беллу Левицки, давшую не менее легендарный ответ: "Я танцовщица, а не певица".
Прототип экранной Дороти — несчастная Дороти Комингор. Сценарист пожалел ее. Самоубийство избавило бы ее от беспрецедентных даже по тем временам испытаний.
Прегрешений за ней числилось даже меньше, чем за иными "красными". Воспитанная отцом, создателем профсоюза типографов "Лос-Анджелес Таймс", она вместе с легендарным исполнителем блюзов Ледбелли и Робсоном успешно боролась за десегрегацию клубов, созданных в годы войны для развлечения джи-ай. Состояла в комитете в защиту мексиканцев, облыжно обвиненных в убийстве по так называемому делу Спящей Лагуны. Это, в общем-то, и все. Даже на допрос в КРАД она угодила по делу о "проникновении коммунистов в профсоюзные организации". На вопросы — как многие — отказалась отвечать на основе первой и пятой поправок к конституции, но еще и оскорбила сенатора Уилера, пялившегося на нее: "Вы, что, играете под столом в карманный бильярд?" Но ей катастрофически не повезло с режиссером, сделавшим из нее звезду.
Контракт с "Уорнер" 25-летняя Дороти получила (1938), благодаря протекции Чаплина, приметившего ее на сцене маленького театра в Кармеле, Калифорния. Но студия эксплуатировала ее красоту для рекламных снимков и модных дефиле и не торопилась выпускать на экран. Не желая быть "девушкой для вечеринок", Комингор ушла на "Коламбию", где вступила в клинч с продюсерами, требуя соблюдений трудового законодательства. И тут появился демиург, великий и ужасный Орсон Уэллс.
В "Гражданине Кейне" беременная Дороти сыграла, вызвав всеобщие восторги, главную женскую роль — роль жены газетного магната, прообразом послужила актриса Мэрион Дэвис — любовница Уильяма Херста. А в США не было более мстительного и всемогущего человека, чем Херст. Охота на ведьм выкосит львиную доля соратников Уэллса по театру и кино. Сам Уэллс эмигрирует одним из первых — в 1947 году. Вслед ему полетят обвинения не только в "негрофилии" и коммунизме, но даже в причастности к убийству полустарлетки, полупроститутки Элизабет "Черный Георгин" Шорт, чье чудовищно изуродованное тело нашли на окраине Голливуда. Именно херстовские колумнисты Хедда Хоппер и Уолтер Уинчелл начали травлю Комингор.
А еще ей не повезло с мужьями. Первый из них — Роберт Мельцер — был соавтором сценария "Великого диктатора" Чаплина и вторым режиссером, почти альтер эго Уэллса. Они расстались еще до войны, на которую Мельцер ушел добровольцем, чтобы пасть во Франции. Учрежденную сценарную премию его имени ликвидировали в 1952-м, когда выяснилось, что Мельцер был коммунистом.
Второй — сценарист Ричард Коллинз — тоже состоял в партии, но предпочел стать "дружественным свидетелем" и дал показания на 23 коллег. Одновременно Коллинз добился того, чтобы Дороти, с которой он развелся, лишили родительских прав на их детей — 5-летнего Майкла и 8-летнюю Джуди. Основания: предполагаемое членство Дороти в партии и ее алкоголизм. Она действительно сильно пила, но для этого у нее были все основания. Создается впечатление, что актрису сознательно сводили с ума. В этом чувствуется что-то личное, выходящее за рамки политической расправы: очевидно, она слишком насолила и Херсту, и Уилеру, и Коллинзу.
Кто-то проникал в ее дом, озаботившись оставить явственные следы вторжения. А 19 марта 1953 года двое мужчин угостили ее в баре выпивкой, потом предложили подвезти домой. Но вместо этого затащили на темную аллею, расположенного поблизости парка, и засунули в сумочку десятидолларовую банкноту. Затем предъявили удостоверения офицеров полиции нравов и обвинили в занятиях проституцией. Откровенная провокация вызвала отвращение даже у респектабельных антикоммунистов, зато бульварная пресса ославила Дороти по полной. Теперь ее лишили даже права на свидания с детьми. Поставленная перед выбором: тюрьма или принудительное, но, как ее уверили, непродолжительное психиатрическое лечение, она выбрала больницу, где провела два года. Комингор умерла, всеми забытая, в возрасте 58 лет в Стонингтоне, штат Коннектикут,— дыре, где и сейчас-то не насчитать 20 тысяч жителей. Последним ее мужем был местный почтальон, а последней семьей — две собаки и десять кошек. Судя по всему, она просто спряталась там от всего мира.
 Глава шестнадцатая, в которой «красные» сценаристы путаются в собственных именах
Глава шестнадцатая, в которой «красные» сценаристы путаются в собственных именах

Фото: DIOMEDIA / Entertainment pictures
На съемках "Подставного лица" были "все свои" — цвет черных списков. Сам Ритт (в 1950-х он выживал, играя в покер), актеры Хершел Бернарди, Ллойд Гоф, Джошуа Шелли, Альберт Оттенхеймер. Сценариста Уолтера Бернстайна привело в партию восхищение партизанами Тито, к которым он пробирался тропами военкора. Зеро Мостела, 3242 раза сыгравшего на Бродвее Тевье-молочника, выжигу Макса Бялостока из "Продюсеров" (1968), "Time" называл (1943) "самым смешным человеком Америки". В первом десегрегированном клубе "Cafe Society" он распевал куплеты о КРАД: "Кое-что очень тревожит меня: // Кто расследует того, кто расследует того, кто расследует меня?" Даже свой допрос он обратил в шоу, "душил" адвоката, вопил: "Нет, ви слышали, что он за меня сказал? Я — коммунист?! Таки выгоните этого человека!" Отсмеявшись, следователи дали ему десять минут на раздумья: Зеро подумал и лишился работы. В общем, не съемочная группа, а партячейка и приемная семья для детей их общего друга — звездного Джона Гарфилда, умершего в 1952-м в 39 лет между двумя допросами — актрисы Джулии и монтажера Дэвида.
Фильм слишком напоминал "Генерала делла Ровере" Росселлини, чтобы поверить в его реальную подоснову. В "Генерале" ничтожный пройдоха подыгрывал гестапо, изображая командира подполья. Духовно преобразившись, он "становился" генералом и шел на расстрел. У Ритта трое "красных" ангажировали бруклинского шлемазла, кассира из ресторанчика, чтобы за 10% от гонорара тот выдавал себя за автора написанных ими сценариев. Преобразившись, герой Вуди Алена бросал вызов КРАД.
Бернстайн вспоминал: "Продюсер, славный гей, сказал: "Я не могу больше тебя использовать, ты в списке". Ну я придумал себе другое имя и написал еще несколько сценариев. Тут он снова: "Все пропало. Там, наверху, считают писателей коварными ловкачами, использующими заемные имена. Тебе нужен кто-то, чтобы быть тобой на совещаниях". Писатели — везунчики: им не надо торговать лицом. Проблема заключалась в том, что люди шли в подставные лица по разным причинам и всегда ненадолго. Одним позарез нужны деньги, другим — начинающим писателям — имя в титрах. Третьи не брали денег, они просто хотели помочь. Приходилось все время рыться, чтобы кого-то найти. Скажу ужасную вещь: кое-чего в наши дни мне не хватает — товарищества, исчезнувшей самоотверженности. Во многом я был счастлив. Мы объединились с Арнольдом Мэноффом и Абрахамом Полонски. Что-то разнюхав, звонили попавшим в списки и говорили: "Есть работа". В остальном это было дурное время всеобъемлющего страха. Знакомые переходили на другую сторону улицы, завидев меня. Когда списки закончились, мне написал шеф драматической редакции CBS. Став независимым продюсером, он предлагал мне работу. Постскриптум гласил: "При случае передайте приветы..." — следовал список всех моих подставных лиц. Все все знали".
Все действительно "все знали". Продюсеры лицемерно изумлялись: кто бы мог подумать, что секретарь студийного профсоюза Джоан Лакур — прирожденная сценаристка. Они не могли не знать, что божий дар проснулся в ней после того, как она вышла замуж за вышедшего из тюрьмы Эдриена Скотта. Градус лицемерия был прямо пропорционален степени сценарного дефицита. Работать было буквально некому, но в этом крылась и своя выгода: платили "красным" на порядок меньше, чем прежде. И еще: "кто не спрятался — я не виноват". Разоблаченные Скотты эмигрировали. Те, кого ловили за руку, сами попадали в списки: маэстро готических ужасов, строгий "сталинец" Гай Эндор, одолживший свое имя Трамбо и Хьюго Батлеру для нуара "Он бежал всю дорогу", превратился в Гарри Релиса.

Дональд Трамбо, 1957 год
Фото: John Swope/The LIFE Images Collection/Getty Images
Миллард Кауфман, другой двойник Трамбо по другому великому нуару "Без ума от оружия", сам потребует снять свое имя из титров. Этот оставшийся вопиющим исключением жест дал толчок к восстановлению исторической справедливости. В 1986-2001 годах комиссия Гильдии сценаристов восстановила имена 39 авторов в титрах 109 фильмов, но работа, очевидно, далеко не завершена. Встречаются фильмы вообще без указания сценаристов, вычеркивались имена и режиссеров, и композиторов.
Голливуд 1950-х — зазеркалье мертвых бумажных душ. Маски прирастали к лицам: Ховард Димсдейл до самой смерти оставался Артуром Дейлзом, Лестер Фуллер — Жаном Жерольдом. Джулиан Зимет раздвоился на Нину и Хермана Шнейдер. Пол Джеррико выразительно назвался Питером Ахиллесом.
Как в любом зазеркалье, расплодились злые волшебники, для которых опальные интеллектуалы клепали сценарии типа "Земли против летающих тарелочек", "Гигантского бегемота" или патриотических "Морских ведьм" с ненавистным осведомителем ФБР Рейганом в главной роли.
А вот Филипу Йордану присуще зловещее почти что величие. Десятилетиями он считался автором-универсалом, которому подвластен что экзистенциальный вестерн "Джонни Гитара", что "День триффидов". Но сначала вполголоса, потом все громче Голливуд заговорил о том, что Йордан вообще не умел писать, зато был великим "рабовладельцем". "Триффидов" за него писал опальный Бернард Гордон, "Клеопатру" — Сидни Бахман, "Сида" — Бен Барзман.
На противоположном полюсе подпольного Голливуда — уникально одаренный во всем, за что бы он ни брался, Трамбо, сколотивший целую артель репрессированных писателей. Проблема артели заключалась в сущем пустяке: ее участники были слишком хорошими профессионалами. Трамбо, меняя маски, сумел дважды завоевать "Оскар", чего в прошлой жизни ему не удавалось. О'кей: мастерство Йена Маклеллана Хантера, получившего — вместо Трамбо — награду за сценарий "Римских каникул" (1953), сомнений ни у кого не вызывало. Когда же получать "Оскар" за сценарий "Смельчака" (1956) не явился Роберт Рич, объяснение, что этот неведомый дебютант не отходит от постели жены-роженицы, никого обмануть уже не могло. Рич то ли вообще не существовал в природе, то ли был кем-то вроде кассира, сыгранного Вуди Алленом.
Дальше — больше. Через два года Пьер Буль, автор "Моста через реку Квай", демонстративно не прилетел за "Оскаром", присужденным ему за экранизацию романа. Ни для кого не было тайной, что Буль не владеет английским — и сценарий не мог написать по определению. Еще через год киноакадемия наградила таинственного Натана Э. Дугласа за антирасистский сценарий "Бросившие вызов". На деле Натан Э. Дуглас — это был псевдоним Недрика Янга. За дружественной спиной Буля прятались Карл Форман и Майкл Уилсон. Уилсон ухитрился еще дважды выйти под псевдонимами в финал "Оскара" за сценарии "Дружеского увещевания" (1956) и "Лоуренса Аравийского" (1962). Одно лишь остается непонятным — и вряд ли мы когда-либо услышим ответ на этот вопрос: как они сами-то не путались в своих псевдонимах. Или все-таки путались?
 Глава семнадцатая, в которой голливудские «красные» разбегаются по миру
Глава семнадцатая, в которой голливудские «красные» разбегаются по миру

Присуждение Дассену каннского приза за режиссуру знаменовало рождение уникального французского нуара. Сумрачную балладу об ограблении, ставшем звездным часом и смертным приговором чахоточного пахана Тони (Жан Серве), о гангстерских войнах и женском коварстве французское кино пересказывало с вариациями лет тридцать. А получасовая — без единого слова — сцена ограбления была по виртуозности достойна Цезаря, миланского медвежатника, сыгранного самим Дассеном.
Фестиваль был для него удачен вдвойне: он встретился с будущей женой великой греческой актрисой Мелиной Меркури. Но звездой фестивальной хроники Дассен не стал. Соотечественники-американцы подходили выпить за его здоровье, но испарялись, стоило им приметить фоторепортера. По красной дорожке на премьеру Дассен шествовал бы в одиночестве, не составь ему компанию Джин Келли. Дассен, автор великих нуаров ("Обнаженный город", 1948; "Ночь и город", 1950) бежал из США, когда его друг Эдвард Дмитрик назвал его имя следователям КРАД.
Годом раньше он приступил к съемкам криминальной комедии "Враг общества номер один" с Фернанделем. Но Жа Жа Габор — скорее светская звезда, чем актриса,— наотрез отказалась сниматься, пока не выяснится, коммунист ли Дассен. Продюсер запросил всемогущего профсоюзного босса Голливуда, зловещего Роя Брюэра. Тот ответил, что у Дассена слишком много подозрительных связей с компартией и его фильм не может рассчитывать на прокат в США. За два дня до начала съемок Дассена уволили. За "Разборки" он взялся от отчаяния, с апломбом соврав продюсеру, что, да, читал роман Огюста Ле Бретона и, да, в восторге от него. Бросившись лихорадочно читать роман, который предстояло экранизировать, Дассен ужаснулся. Написан он был написан на таком авторском арго — экс-шулер и вор Ле Бретон был незаурядным языкотворцем,— что пришлось заказать перевод "с французского на французский". Ну и холодная жестокость романа претила гуманисту Дассену.
Все хорошо, что хорошо кончается. Дассен, сын и внук одесских парикмахеров, режиссер агитпроповских театров 1930-х, игравших на идише, ставивший на место даже великого и ужасного Луиса Б. Майера, стал великим греческим режиссером.

Жюль Дассен с женой Мелиной Меркури, 1960 год
Фото: AP
Дассен — лишь один из беглецов. Эмиграцию выбрали сотни людей: от таких титанов, как Бунюэль, Орсон Уэллс и Чаплин, до скромных звукооператоров. Впрочем, еще надо было успеть эмигрировать. Государственный департамент лишал неблагонадежных загранпаспортов. Невыездному Полю Робсону приходилось по телефону исполнять свой хит "Старик-река" для Йориса Ивенса, не мыслившего фильм "Песнь великих рек" без этого гимна Миссисипи. Роман Симоны де Бовуар с Нельсоном Олгреном пришел в упадок, поскольку знаменитый автор "Человека с золотой рукой", экранизированного с Фрэнком Синатрой в главной роли, был лишен паспорта. А Бовуар, в свою очередь, был запрещен въезд в США, как, скажем, Иву Монтану и Морису Шевалье, подписавшим Стокгольмское воззвание о запрещении атомного оружия, или Грэму Грину, неосторожно сказавшему интервьюеру, что в юности состоял в компартии.
Первый поток эмигрантов устремился в Мексику. Дональд Огден Стюарт, баловень Бродвея, глава Антинацистской лиги Голливуда, описывавший свое вступление в партию как мистический опыт, понял, что пора валить, когда ему позвонили из MGM с просьбой зайти и ответить на пару пустяковых вопросов. Нервный сценарист Бернард Гордон бежал через границу среди ночи, разбудив телефонным звонком коллегу Гордона Кана: дескать, продавай за любые деньги твой 13-комнатный особняк, пока не поздно. Но в Мексике, слишком зависевшей от северного соседа, работы для целой толпы эмигрантов просто не находилось.
Возможности устроиться в Европе, впрочем, тоже были не безусловны и впрямую связаны с профессиями политбеженцев. Например, во Франции, по большому счету отличавшейся расовой терпимостью, обрела второй дом целая афроамериканская колония во главе с писателями Джеймсом Болдуином и Ричардом Райтом и карикатуристом Олли Харрингтоном, прославившимся рисунками во фронтовой прессе. Звезда джаза, виртуоз игры на губной гармонике Ларри Адлер обустроился в Лондоне, а его партнер — чечеточник Пол Дрейпер — в Женеве.
Европу выбрали, помимо Дассена, и другие опальные режиссеры, не имевшие, в отличие от сценаристов, возможности работать на родине под псевдонимами. Но продюсеры слишком боялись потери американского рынка, чтобы встретить изгнанников с распростертыми объятиями. Даже великий Джозеф Лоузи, будущий каннский триумфатор ("Посредник", 1971), начинал в Англии с кабальных контрактов и работы под псевдонимами. К тому же у него, как и у многих изгнанников, был просрочен американский паспорт. В континентальной Европе его несколько раз задерживали и депортировали. Даже в 1965 году, когда события начала 1950-х, казалось, должны были быть сданы в архив, его арестовали в Италии, где Лоузи снимал "Модести Блейз" — пародийную женскую вариацию на тему "бондианы" с Моникой Витти в главной роли. По его словам, "дело удалось закрыть, кое-кого подкупив, чтобы соответствующие досье исчезли. Я узнал о заговоре ЦРУ и фашистов из итальянской киноиндустрии, внесших меня в свой черный список".
Не только Лоузи оставался под колпаком спецслужб даже в Европе. В досье ФБР на Орсона Уэллса приземлилась фотография, на которой он трапезничал с лидером итальянской компартии Пальмиро Тольятти. Британская контрразведка следила, среди прочих, за великим этномузыковедом Аланом Ломаксом, открывшим миру американскую фолк-музыку, и актером и режиссером Сэмом Уонамейкером, ныне признанным национальной гордостью Великобритании как человек, восстановивший и возглавивший шекспировский театр "Глобус".
Но более всех спецслужбы интересовала журналистка Ханна Вайнстайн, основавшая в Лондоне фирму Sapphire Film, истинный оазис для таких же, как она, беженцев. Там нашлась — под псевдонимами — работа для сценаристов Адриена Скотта, Ринга Ларднера, Говарда Коха, Уолдо Солта, Роберта Лиза, Йена Маклеллана Хантера. Именно с сериалов "Приключения Робина Гуда" или "Приключения сэра Ланселота", сочиненных их совместными усилиями, начался расцвет британского телекино. ФБР полагало, что Вайнстайн инвестировала в сериалы "черную кассу" компартии США. Что ж, к тому времени, когда расцвел Sapphire Film, партия практически перестала существовать. Можно только порадоваться, что ее касса не пропала зря.
 Глава восемнадцатая, в которой выражение «называть имена» обретает зловещий смысл
Глава восемнадцатая, в которой выражение «называть имена» обретает зловещий смысл

Фото: DIOMEDIA / PHOTONONSTOP
Завоюй "В порту" свои восемь "Оскаров" на пару лет раньше, фильм был бы признан прогрессивным шедевром: "красные" драматурги давно подбирались к теме всевластия мафии в доках Хобокена. Но фильм о докере (Марлон Брандо), нарушившем кодекс молчания, снял именно Казан. И — заслужил проклятия "левых": фильм ославили как апологию стукачества и агрессивную попытку Казана заглушить свою нечистую совесть. Дело в том, что режиссер Казан, сценарист Бадд Шульберг и актер Ли Джей Кобб, сыгравший в фильме преступного адвоката, назвали в 1951-1953 годах КРАД имена соответственно 11, 15 и 20 коллег-коммунистов.
Выражение "naming names" тогда обрело зловещий смысл и стало эвфемизмом предательства. "Имена назвали" 58 из 110 свидетелей по "голливудскому делу". По сравнению с иными из них Казан считай что промолчал. Сценарист Мартин Беркли, в 1937-м любезно предоставивший для партсобраний свой особняк, назвал 155 имен, Полина Таунсенд — 83, Дэвид Лэнг — 75.
Все они клялись, что давно порвали с партией, ужаснувшись преступлениям Сталина и убедившись в реальности "красного" заговора. Так и Казан за 19 месяцев, что состоял в партии (1934-1936), "познал, что такое диктатура и контроль за мыслями" и "стал яростным антикоммунистом". Обычные интриги в легендарном театре "Группа" он трактовал как партийный заговор с целью захвата театра.
Прозрение — дело хорошее. Но поверить в его искренность мешает один пустяк. Ни один из "дружественных свидетелей" до того, как оказался перед КРАД, никак и никогда не проявлял своего антикоммунизма, продолжая дружить и работать со "сталинцами". Партия, в конце 1930-х напоминавшая проходной двор, порой вообще не была в курсе, что имярек бросил партбилет на стол. Во весь голос "яростные антикоммунисты" заговорили лишь после вызова на допрос. Драматург Клиффорд Одетс, ужиная с Лиллиан Хеллман, громыхал кулаком по столу, опрокидывая бокалы: "Я скажу тебе, как я поведу себя перед этими уродами. Я покажу им, что такое настоящий радикал, я пошлю их всех!" Через пару недель он назвал шесть имен.
"Страх лишиться бассейна, теннисного корта, коллекции картин, страх перед нуждой" — так объяснила Хеллман мотивы предательства. Орсон Уэллс вторит ей: "левые предавали ради спасения своих бассейнов". Продюсер Спирос Скурас уведомил Казана, в 1951-м заработавшего 400 тысяч, что отказ от показаний будет означать отказ от Голливуда. Все это довольно типовая история.
Исключительность Казана в другом.
Жертвы черных списков иных доносчиков жалели и прощали.
Прощали тех, у кого КРАД вымучила имена, как у Ларри Паркса, что, впрочем, не спасло его от черных списков. Прощали таких жертв гомофобского шантажа, как хореограф "Вестсайдской истории" Джером Роббинс. Тех, кто не выдержал отлучения от кино, как режиссер Роберт Россен. В 1951-м он никого не назвал и эмигрировал, а в 1953-м вернулся и сдал 54 человека.
Даже Дмитрику, который, отсидев по делу "десятки", назвал 26 человек — включая Жюля Дассена, заботившегося о детях заключенного режиссера,— Герберт Биберман находил оправдание: "А что ему было делать? Укрыться в цветущем саду? Продавать телевизоры? Пойти в официанты или парикмахеры? Потребность в работе сильнее потребности в еде".
Жертвам списков было просто понять того же Кобба, исповедовавшегося: "Когда правительство делает человека мишенью, это может убить. Черный список — только начало. Предел сопротивления — это когда вы шагу не можете ступить без соглядатаев. Прослушивание телефона — куда ни шло, но перехват счетов от бакалейщика — это уже перебор. Через некоторое время угрозы становятся невыносимы — и вы ломаетесь. Мою жену пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. У меня было двое маленьких детей. Я держался дольше всех — два года". Страх за семью сломал не его одного. Многие браки распались, жена Кобба была не единственной обезумевшей "красной" женой, а жена Дмитрика то ли покончила с собой, то ли ошиблась с дозировкой лекарств.
И только Казана ненавидят и презирают по сей день. Как отчеканил Абрахам Полонски, "Казан был дрянью, готовой предавать и предавшей всех своих женщин, многих деловых партнеров и большинство коллег". За две недели до того, как Казан разместил в газетах призыв называть имена, Полонски встретил его на партсобрании. Артур Миллер "любил Казана как брата", но был уверен, что тот предал бы и его, если бы знал о партийном прошлом Миллера. Не пожалел же он актрису Ким Хантер, получившую "Оскара" за роль Стеллы в "Трамвае "Желание"" (1951), а до того игравшую ее в театре в постановке того же Казана.

Элиа Казан и Марлен Дитрих на премьере фильма Джорджа Кьюкора «Звезда родилась», 1954 год
Фото: M. Garrett/Murray Garrett/Getty Images
Особенно возмущало современников одно обстоятельство. Театральный режиссер номер один, первооткрыватель Теннесси Уильямса, Миллера и Брандо, пророк "Метода" — американской версии системы Станиславского — находился в привилегированном положении. Безработица и нищета ему никак не грозили: Бродвей черным спискам успешно сопротивлялся. Эксклюзивность Казана сознавали и "охотники на ведьм". Случай беспрецедентный: назвать имена его уговорил лично Гувер.
Казан лишь усугубил отторжение неловкими попытками объясниться в мемуарах и интервью — прежде всего с самим собой. Ссылался на обиду за исключение из партии. Искал оправдание в том, что и без его показаний все знали, кто есть кто. Пускался в силлогизмы: "предательством было бы солгать, а я сказал правду, следовательно я не предатель". Утверждал, что, назвав имена, несравненно вырос как режиссер и почувствовал себя более чем когда-либо левым.
Двадцать лет спустя Дальтон Трамбо и Хеллман вступили в полемику о памяти и прощении. Трамбо призвал: "Не ищите злодеев или героев, святых или демонов, потому что их не было: одни только жертвы". "Каждому из нас пришлось говорить то, чего он говорить не хотел, делать то, чего не хотел; ранить, не желая того, и получать раны. Никто из нас — правых, левых или центристов — не вышел безгрешным из этого долгого кошмара". Хеллман парировала: "Прощать — божий удел, но не мой".
Реплика Трамбо — "Что ж, это называется, знаешь ли, мстительностью?" — оставалась без ответа еще почти 20 лет. В 1999-м Казану вручали "Оскар" за вклад в киноискусство. Вклад несомненен. Казан, в отличие от многих, и после грехопадения сохранил творческую мощь. Как художник он предал себя разве что в нелепом "Человеке на канате" (1953). Похоже, что этим фильмом о чешских циркачах, с боем прорывающихся через "железный занавес", он откупился от Гувера, наконец-то выставив "яростный антикоммунизм" напоказ. Казалось бы, за 47 лет все быльем поросло. Но еще живые жертвы черных списков и их потомки подняли страстную компанию протеста, на которую не менее страстно ответили контракциями поклонники Маккарти и КРАД. Так что в каком-то смысле последнее слово в споре с Трамбо осталось за Хеллман.





 Вступление
Вступление