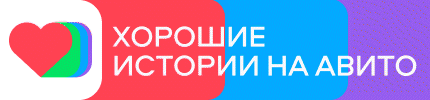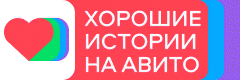Умер Сергей Сергеевич Аверинцев
Он был очень непонятный.
Писать ему некролог трудно и странно, он ускользает от жанра некролога. Некролог сродни памятнику, смысл некролога — сказать, что человек был в центре мира, а теперь его нет, но мир остался. И кратко назвать этот мир. Сергей Аверинцев, вне всякого сомнения, был в центре мира, но при этом как-то всегда ускользал от того, чтобы быть в центре.
Он был очень непонятный.
Его доклады в 70-80-е годы собирали гигантские аудитории — чуть не по тысяче человек. У него была не слишком удачная ораторская манера, он почти бубнил. Доклады он читал на шести-семи языках, давая обширные цитаты на древнегреческом, латыни, древнееврейском, немецком, английском, французском и итальянском без переводов. Вкупе с тихим голосом и довольно сильной погруженностью в себя это создавало непреодолимые препятствия для понимания. Тем не менее вся эта тысяча слушателей внимала ему как завороженная.Его книги довольно широкому кругу людей требовалось знать наизусть, чтобы из круга не выпасть. Но внятно пересказать, что же в этих книгах написано, никому не удавалось — слишком сложно, слишком тонко, слишком невесомо. "Поэтику ранневизантийской литературы" мы читали все — попытайтесь сейчас вспомнить, что же там сказано, у вас возникнет мозаика из слез Августина и каких-то украденных в саду яблок, а почему же все-таки погибла античность и вместо этого началась эта Византия, как-то не вспомнишь. По сути, он всегда писал очерки, и хотя эти очерки собирались в книги, а книги становились главными текстами своего времени, но если теперь сформулировать главное впечатление от этих книг — это что тебя сдвигают в сторону, что ты где-то в замечаниях на полях. Ему было свойственно какое-то странное для филолога, никогда не артикулируемое, но все-таки ясно ощутимое глубочайшее сомнение в том, что нечто главное может быть произнесено вслух и публично.
Со своей не поддающейся никакому определению эрудицией, со своими бесконечными живыми и мертвыми языками, со своими способностями помнить, что по вопросу об одной позднеримской надписи на камне сказал в ранней студенческой заметке фон Гумбольдт он казался воплощением немецкого ученого. Немецкие ученые — с нереально обширными знаниями, со строгой систематичностью занятий, с расписанием на жизнь, похожим на собрание сочинений, где каждый день заполняет очередные три страницы. Было такое аристократическое племя — русские немецкие ученые, и вот можно сказать, что ушел последний и, может быть, самый великий из них.
Но при этом он — в это трудно поверить, но проверьте по библиографии — отличался редкой несистематичностью занятий, и скорее действовал именно по-русски. Его путь страшно извилист, его бросает от вавилонской литературы к Пушкину и Гете и от надписей в алтаре Софии Киевской к Честертону. Это вовсе не систематическая осада крепостей древней истории и литературы, но, скорее, крайне романтические, чтобы не сказать авантюрные набеги в самые разные пределы.
Наверное, самое поразительное в том, что на самом деле все это — внешние проявления православного священника, коим он стал в конце жизни. Немецкий ученый и православный священник, эрудит и интеллектуальный авантюрист — все это выглядит как какой-то калейдоскоп масок. При том, что этот человек никогда не играл никаких ролей и, наверное, трудно придумать для него менее подходящее занятие, чем лицедейство.
На самом деле все, разумеется, объясняется именно тем, что перед нами глубоко православный мыслитель. Собственно, за этим нежеланием оказываться в центре в первую очередь стоит христианское смирение. Сергей Аверинцев — наследник той традиции русского религиозного ренессанса, которая расцвела в начале века и так трагически прервалась. И у него, как наследника, было две задачи, которые он и исполнил.
С одной стороны, от этой школы очень мало осталось. Ее даже непонятно из чего собирать, потому что она основывалась на соединении энциклопедического европейского гуманитарного знания с живой церковной практикой. Для ее развития и то и другое должно быть очень сильным, а в советское время в дефиците было и то и другое. Сергей Сергеевич ухитрился собрать эту традицию не только из оставшихся текстов, а еще из мировой культуры, к которой она была обращена. Он как бы находит ту интонацию, с которой писали бы обо всем, о чем он написал, ученики Соловьева, Флоренского, Ильина, если бы они создали православную академию и эта академия сегодня была бы одним из мировых центров гуманитарной мысли.
А с другой стороны, это была очень молодая школа. Всего два поколения философов, они не успели высказаться по массе вопросов. Когда школа только рождается, в ней всегда ощутим дух романтической авантюры, мир еще очень свеж и открывается заново, и можно думать совсем о чем угодно, потому что еще нет никаких нахоженных путей. Я думаю, каждому читателю Флоренского ясен и большинству симпатичен его какой-то отчаянный интеллектуальный авантюризм. Мне кажется, Аверинцев перенял это свойство, ему — просто в силу того, что новая православная мысль еще так молода — было дано внутреннее право быстро высказываться о чем угодно, и это сразу оказывалось необыкновенно, ново, глубоко.
Русский религиозный ренессанс, и византийская литература, и антиковедение, и церковная жизнь, и философия экзистенциализма, и Мандельштам — по отдельности всего этого было много в 60-80-е годы, но соединить это все вместе в одной личности — это слишком сложно и уникально, и непонятно, как это у него получилось. Можно только восхититься этим. И еще сказать вот что. Сергей Аверинцев был глубоко верующим человеком, и если каждому воздастся по вере его, то ныне он, несомненно, в раю. Трудно назвать человека более этого достойного.
ГРИГОРИЙ Ъ-РЕВЗИН