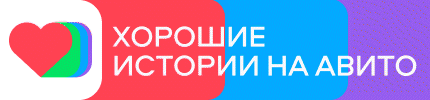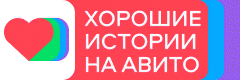Преодолев свою нелюбовь к журналистам, ДЖОН ИРВИНГ ответил на вопросы АННЫ Ъ-НАРИНСКОЙ.
— Вы не раз утверждали, что самое ценное в ваших романах — это то, что является плодом вашего воображения. А ведь очень многие писатели сегодня насыщают свои книги реальными событиями и узнаваемыми персонажами.
— Никто не отрицает, что события собственной биографии — источник вдохновения любого писателя. Но сегодня они из источника превратились в материал и перекочевывают в книги практически непереработанными. Возможно, это явление стало массовым потому, что теперь огромное количество журналистов взялось писать романы, а единственный доступный им вид прозы — это нон-фикшн. Ведь это совсем не просто — взять и выдумать из головы огромное количество персонажей и событий. Кроме того, сейчас на книжный рынок выплеснулось огромное количество мемуаров, и средства массовой информации набросились на них с каким-то нездоровым интересом. Дело не в каком-то особом интересе сегодняшних авторов к описанию реальных событий, дело в том, что сегодняшние медиа с неестественной силой увлечены деталями жизни частных людей.
— Многие американские писатели сегодня пишут о политической ситуации в Америке, о влиянии этой ситуации на американцев. А вы?
— Действительно, теперь многие в книгах отвечают на события сегодняшнего дня. Но не я. У меня не получается быстро переваривать реальные события. Книгу про Вьетнам "Молитва об Оуэне Мини" я написал спустя 20 лет после войны. Я нарочно поместил действие романа "Правила виноделов", обсуждающего проблему абортов, в 30-е годы — чтобы по максимуму выдвинуть эту историю из того чисто политического ореола, который сегодня в Америке эту проблему окружает. Свой последний роман, а это моя самая автобиографическая книга — про мое детство и отрочество, я начал писать, когда мне было далеко за пятьдесят. Мне требуется, чтобы между вещами, которые повлияли на меня, и актом художественного их осмысления была бы большая дистанция. Что до главного события последнего времени, я имею в виду 11 сентября, к тому времени как я додумаю все, что я думаю об этих событиях и буду готов их описать, я буду уже давно мертвым.
— Вы страстно и громко поддержали Гюнтера Грасса. Его случай, так возбудивший западную общественность, на постсоветском пространстве не был бы столь уникален. В советское время немало людей творческих профессий сотрудничали с НКВД, с КГБ...
— Но я не знаю, я не слышал исповеди этих людей. А исповедь Грасса слышал — читал. Из-за его признания подняли такой шум, как будто бы все уже забыли, на чьей стороне он выступал в "Жестяном барабане". Ему было 15, когда его забрали в армию, 17 — когда он записался в Waffen SS. Помнят ли себя его критики в этом возрасте? Когда в конце войны он был схвачен американцами, он признался, что служил в SS. И тем писателям, которые вместе с ним входили в "Группу 47", он говорил об этом, просто ни один из них его не сдал, по-видимому, никто из них не был журналистом. Теперь он нашел в себе силы написать об этом в автобиографической книге "Очищая луковицу". Все атаки, которым Грасс подвергается сегодня, представляются мне просто выпадами лицемеров, которые пытаются нажиться на его славе.
— Почему вас так заботит судьба Гарри Поттера?
— Когда Джоан Роулинг, Стивен Кинг и я проводили совместные литературные чтения в Нью-Йорке, кто-то спросил госпожу Роулинг, выживет ли Гарри. И тогда я сказал, что болею за Гарри — не хочу, чтобы он умирал. Вот и все. В этом не было ничего особенного. Я на своем веку убил куда больше персонажей, чем госпожа Роулинг, а что уж говорить о Стивене! Уверяю вас, то, что я сказал, отнюдь не было попыткой давления на госпожу Роулинг.
— Можно сказать, хоть это весьма приблизительно, что главная тема ваших книг — семья. Вы думаете, что семейные отношения, семья как феномен до сих пор интересны?
— Чем более сильной опасности подвергается семья как институт, тем более важным мне представляется этот институт поддерживать. Мне неизвестны общественные установления, в большей мере оправдавшие свое существование. Государство? Религия? Первое не перестает разочаровывать нас, вторая просто-напросто убивает нас во имя Божье. Да, идея семьи кажется многим приговоренной, ведь столько браков распадаются, столько детей растут вдали от своих родителей, но при этом огромное количество людей прилагают усилия, чтобы завести идеальную семью. Если допустить, что что-то еще способно удержать человечество на плаву, то это семья, а не государство и не религия. При том, что именно сегодня как никогда человечество нуждается в терпимости, государство и религия не устают проявлять ужасающую нетерпимость. А семья умеет прощать, поэтому для нее все еще есть надежда.
— Вы всегда писали длинные книги. Даже когда считалось, что с большим романом покончено. А теперь настоящий роман со всей очевидностью возвращается...
— Читатели любят длинные романы с интересным сюжетом и интригующими персонажами. Я всегда считал идеальной моделью роман XIX века, а большинство из них длинные. Для меня главное в романе — это возможность уловить движение времени. Мой предмет — не короткие выходные, а тридцать лет чьей-нибудь жизни или длинный переход из детства во взрослость. Для того чтобы рассказать те истории, которые меня интересуют, мне нужно много страниц.
Критики долгое время были враждебно настроены по отношению к сюжету: по их разумению, он был "устаревшим инструментом". Малые формы были популярны среди критиков, они не уставали призывать авторов писать короче и короче — вероятно, потому, что они ленятся читать. Но настоящие читатели не ленивы. И поэтому до сих пор мы пишем длинные книги. Умберто Эко, Гюнтер Грасс, Салман Рушди, я. И люди их читают.
Длинную книгу написать труднее, чем короткую. Контролировать историю, покрывающую длительный период времени и охватывающую большое количество персонажей, сложнее, чем короткую. Читатели ценят этот труд писателя, а большинство критиков — нет. Я умею писать коротко, я пишу сценарии. Не длиннее 125 страниц — крупным шрифтом с большими пробелами. Но я предпочитаю писать романы. Длинные.