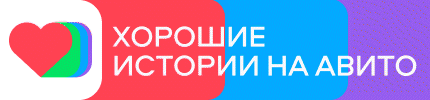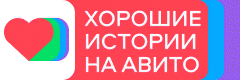«Жизнь не дает скучать!»
Сеченовский профессор Владимир Ивашкин о ноу-хау, призвании и судьбе
Владимир Ивашкин — заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и директор Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии. Он — один из двух ученых Сеченовского университета, которые стали первыми в истории сеченовскими профессорами. Высший квалификационный статус для научно-педагогических работников присвоили по итогам открытого конкурса — за внедрение уникальных разработок и технологий в российское здравоохранение.

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и директор Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии Владимир Ивашкин
Фото: Сеченовский университет
Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и директор Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии Владимир Ивашкин
Фото: Сеченовский университет
Во главе научной команды Владимир Ивашкин создал отечественный прибор для неинвазивной диагностики синдрома избыточного бактериального роста (СИБР). Начинка разработки — анализатор водорода в выдыхаемом воздухе. Адресаты ноу-хау — около 23 млн россиян, которым нужен постоянный мониторинг состава микробиоты. Прибор Gastro One — первый совместный продукт Сеченовского университета и Ижевского радиозавода — выйдет в широкое производство в 2025 году.
«Надев мантию, я ощутил, что выбрал правильный путь»
— Владимир Трофимович, что для вас значит звание «Сеченовский профессор»?
— Признание эффективности того, что делает моя команда. Знак, что дальнейшие исследования в выбранных научных направлениях перспективны.
— Что вы испытали в момент, когда узнали о победе?
— Любая положительная оценка приятна, особенно если ты работал над задачей много лет. Надев профессорскую мантию и выйдя на сцену, я еще раз ощутил, что выбрал правильный путь.
— В создании вашего ноу-хау что было самым большим вызовом?
— Ничто в медицине не создается просто так. Ученые мира активно работали над международным проектом «Геном человека», начатом в 1988 году. Проект завершился в 2022-м — было достигнуто полное секвенирование генома. И вот на одном европейском конгрессе прошла маленькая конференция, посвященная постгеномным исследованиям микробиома человека.
Это было в Швейцарии, впереди был весь вечер, хотелось куда-то пойти, но я остался… Послушал и понял, что микробиом — новое фундаментальное направление, которым стоит заняться. С чего начать? Организовал в Сеченовском университете семинары: почти год мы встречались с коллегами, выполняли задания, заслушивали доклады друг друга. Выявились замечательные сотрудники, которые глубоко вникли в проблему,— они и сформировали ядро нашей команды.
В процессе исследований мы поняли, что для клиники полногеномное секвенирование слишком дорого. Что сделать, чтобы новейшие методики пришли к реальным больным? Изучили зарубежные прототипы нашего будущего прибора. Нашли партнера, Ижевский радиозавод, и сделали чисто российский, уникальный продукт Gastro One.
Не сразу, не за месяц — это были годы работы. Петр Витальевич Глыбочко неслучайно в конкурсе на звание «Сеченовский профессор» ввел графу, сколько защитившихся учеников претендента остались работать в университете. Я даже не знал, что так много — 13 моих учеников! Так, шаг за шагом вместе с ними я пришел к ноу-хау для российского здравоохранения.
В этом году прибор для диагностики СИБР уже появится в клиниках страны.
Любопытство + тренировка = научный успех
— Кому-то может показаться, что ваш путь как ученого — это лишь успех и ни единого сомнения. Бывали ли у вас кризисные моменты?
— Быть лидером в своей области, опережать в исследованиях других специалистов — это, с одной стороны, приносит большое удовлетворение, а с другой — сопровождается рядом сложностей. Вокруг много людей, и каждый по-своему оценивает то, что для тебя является значимым, большим, интересным. Эта оценка не всегда положительная, а порой и вовсе оправдывает их отставание от тебя.
Поэтому ученый должен придерживаться формулы, которую в интервью газете «Нью-Йорк таймс» в 1929 году привел Эйнштейн. Для того чтобы достичь успеха, нужно много работать, хорошо отдыхать и уметь держать язык за зубами.
— Какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешным в науке?
— Ученый отличается большим, чем у многих, любопытством к окружающим событиям. Часто это человек начитанный, причем не только в своей области, но также в истории, философии, искусстве. Кроме того, всякий научный талант надо тренировать. Как в спорте: если хочешь остаться в сборной России, тренируйся каждый день. Ты должен знать все, что происходит в сфере твоего научного интереса, много читать, причем на разных языках.
Интересный факт про Энрико Ферми, который первым в мире провел управляемую цепную ядерную реакцию. По утрам, когда вся семья крепко спала, он уже сидел за письменным столом, чтобы перед выходом на работу посмотреть свежие публикации в журналах. Это modus vivendi, стиль жизни ученого. Мало кто его придерживается, это сложно — и мне сложно! Но к такому стоит стремиться.
Суворовец из новогодней сказки
— Какую роль в вашем становлении сыграли детство, семья?
— Мы жили очень скромно. Отец погиб в 1943 году, и мама одна воспитывала нас троих. Много и тяжело работала. Когда зимой мы просыпались, то знали, что она уже ушла: печка топилась, и дом успевал прогреться. Мы, по сути, были предоставлены сами себе.
У меня была замечательная школа. И прекрасная учительница, которая поощряла инициативы учеников. Мы много читали. Помню, старшая сестра принесла от приятелей книжку «Маугли» с рисунками. Тогда я только-только начинал читать и эту книжку взял и украл — положил под подушку. Пропажа нашлась, но к тому моменту я изрядно ее проштудировал.
Большую роль в моей судьбе сыграл случай. Такие случаи, наверное, выпадают детям, которые могут сами принимать решения, совершать поступки, смотреть на мир не только глазами родителей, но и собственными. В восемь лет я пришел на новогоднюю елку в одну из городских школ — вход был открыт для всех. Это было здание старинной рязанской гимназии, в которой, как я узнал потом, учился основоположник советской фармакологии академик Николай Кравков. Там я увидел своего ровесника, одетого в мундирчик суворовца. Новый год, елка и этот мальчик — будто из сказки. Я пришел домой и сказал: «Мама, я хочу поступить в суворовское училище».
Городская, потом областная комиссия, затем отбор в самом училище в Тамбове… Это было одно из десяти подобных училищ, открытых в СССР Сталиным. Я поступил и попал в совершенно новый мир. Напряженная учеба, иностранные языки, спорт — все это шло мне на пользу.
Его величество случай
— После окончания училища вас направили учиться в Военно-медицинскую академию в Ленинграде. Вы не выбирали профессию врача, но она стала вашим призванием. Как вы думаете, у человека существует одно призвание или он может раскрыть себя на любом месте?
— Человек многосторонен, особенно молодой. Про детей вообще молчу: это энциклопедисты и многорукие, многоногие, многоголовые существа, которые могут превратиться в любого специалиста, если попадут в благоприятную среду.
Я рос в те годы, когда в мир входила ядерная энергия. Даже написал письмо в Московский энергетический институт — получил в ответ условия приема. Не исключаю, что сейчас мог бы быть энергетиком.
И вновь — его величество случай. Правда, тут вспоминается расхожая фраза: случай помогает только зрелым умам. Или, если говорить о молодых людях,— подготовленным умам. Чтобы воспользоваться счастливым случаем, нужно быть к нему готовым.
Я десятки раз проворонивал случаи, которые мне представлялись. Высочайшие знакомства, особые возможности... Ни о чем не жалею: это сохранило мою самостоятельность как ученого.
— Когда вы вошли во вкус, поняли: медицина — это мое?
— Я вошел во вкус сразу, уже на первых лекциях. Очень тяжело мне все давалось… Я половину не понимал, мне все время хотелось спать, потому что приходилось много учиться, и есть, потому что никаких буфетов не было. До первой сессии, чтобы сдать несколько видов химии, физику, анатомию, я сражался с собой. Помогала наша потрясающая библиотека. Когда заканчивались занятия, первый и второй курсы закрывались там и зубрили.
В конце первого курса преподаватель по нормальной анатомии пригласил меня работать в научном кружке. Мне дали препарат, я его целиком подготовил, чем очень гордился. После первого курса мы с товарищами уже работали в клиниках академии санитарами, после второго — фельдшерами.
Вплоть до четвертого курса меня увлекала хирургия. Но в начале пятого я неожиданно услышал выступление молодого профессора — патофизиолога Евгения Викторовича Гублера. В 30 с небольшим он уже был доктором наук, и нам это казалось недостижимой высотой.
Гублер заведовал лабораторией ожоговой травмы. Корейская война, напалм… Я пришел к нему, и он стал моим первым учителем в науке. Вместе мы опубликовали немало работ — с помощью статистических методов определяли глубину ожогов.
«На подлодке геройствовать бессмысленно»
— Что было самым необычным и сложным в работе военного врача на подлодке?
— Я служил на подводной лодке типа «Средняя» с рабочей глубиной погружения 80 м и автономностью плавания 30 суток. У нас шла борьба, кто будет отвечать за продукты — замполит или врач. Никто не хотел. Побеждали всегда замполиты, так что на меня ложилась вся ответственность — контролировать погрузку, распределение, писать отчеты. Это было самое неприятное!
Я быстро усвоил, что героизм, попытки доказать, что ты выдающийся врач, бессмысленны. Особенно когда лодка оказывается в отрыве от берега. До погружения надо было по максимуму выявить у моряков недомогания и заболевания, я тщательно за этим следил.
Самое частое в практике военного врача на подлодке — травмы. Дежурил я также в береговом лазарете. Днем или ночью то и дело раздавалось тарахтение рыбацкого сейнера: пришвартовывались пациенты. Однажды командир такого судна привез жену — рожать. Что делать — я принял роды!
Лечились у нас ребята из местного стройбата, все как один из Средней Азии. Тогда почему-то было принято южан отправлять на север, а северян — на юг. Было много перфоративных язв, которые приходилось оперировать. Сталкивались с неврологической патологией — несколько раз купировали приступы мучительной боли у пациентов с воспалением тройничного нерва.
Это была специфическая медицина — в закрытом гарнизонном городке, на корабле. Мы были молодыми, ошибались, но, к счастью, пациенты выздоравливали без тяжелых осложнений.
— Что из того опыта вам больше всего пригодилось в дальнейшем?
— Дисциплина. Она помогла мне в научных исследованиях. Кандидатскую и докторскую я сделал очень быстро. Хотел скорее разделаться с обязательными научными этапами — освободить руки и голову, чтобы решать, как мне казалось, более интересные задачи.
«Доктор, что ты сидишь на подлодке? Иди в академию!»
— Как из военной медицины вы попали в терапию?
— Командир подводной лодки Виктор Иванович Бежанов видел, что в свободное время я занимаюсь исследованиями. И все время говорил: «Доктор, что ты у нас сидишь, давай выбирайся — в госпиталь, в академию».
Когда наш корабль переводили из Северного флота в Средиземное море, возникла организационная пауза. Командир дал мне в руки личное дело и отправил в Ленинград. Там я воспользовался советом Евгения Викторовича Гублера: «Тебе подойдет не хирургия, а терапия». Подал заявление на терапевтические дисциплины, сдал экзамены в адъюнктуру. И остался в терапии на всю жизнь.
Кстати, по настоянию Гублера я проучился три года на вечернем отделении мехмата. До сих пор помню, как взять интеграл x/dx.
— Кого еще вы называете своими наставниками?
— Одним из моих учителей был академик Александр Михайлович Уголев, который работал в Институте физиологии им. И. П. Павлова. Раз в год у них проходила отчетная конференция — попасть туда было непростым делом. В одном из докладов, как сейчас помню — о реакции анаэробного гликолиза, я услышал ошибку, недоработку. И задал вопрос автору. Уголев, заядлый курильщик, как раз стоял за дверью и курил. Услышав это, как мне потом рассказали, пришел в бешенство: «Что это за неофит, что он себе позволяет?!» Потом пригласил меня к себе — это стало началом большой дружбы. Выдающийся был человек. Именно ему принадлежит открытие пристеночного пищеварения — за это Александра Михайловича номинировали на Нобелевскую премию.
Сильно повлиял на меня академик Федор Иванович Комаров. Он заведовал кафедрой терапии для усовершенствования врачей Военно-медицинской академии и был председателем Ленинградского терапевтического общества. Это была пора живого общения — фантастические вечерние заседания, отчаянная профессура, дискуссии.
Однажды Комаров пригласил на заседание профессора Эпштейна — с докладом о механизме секреции соляной кислоты. Стало настолько интересно, что я в это дело влез. Начал работать с Эпштейном, сошелся с ним и по-дружески.
Одновременно меня заинтересовал механизм образования энергии в клетках живых организмов. Тогда в Москве эту тему разрабатывал академик Владимир Петрович Скулачев. Мне удалось вникнуть в механизм секреции соляной кислоты через понимание клеточного дыхания. Клеточное дыхание осуществляется митохондриями — они поглощают кислород, и из субстратов образуется аденозинтрифосфат (АТФ). Исследования, публикации у нас и за рубежом… Было очень интересно!
Прототип для молодого ученого
— Что лично для вас в современной науке представляет наибольший интерес?
— Все сошли с ума по антиэйджингу, меня эта проблема тоже интересует. Только не с позиции биолога, как подавляющее число ученых, а как клинициста. Исследования на мушке дрозофиле, на мышах — это хорошо, но мне интересно поработать с пациентами. Найти подходы, чтобы получать оценочные данные у человека. Научиться проверять предполагаемые факторы, которые влияют или не влияют на здоровье и продолжительность жизни.
По теме антиэйджинга появились первые успехи, и это по-настоящему меня захватывает. В мире есть группа людей, которые быстро вникают в рекомендации из научно-популярных источников о том, как жить дольше и жить здоровее. Рекомендации, которые получены по итогам экспериментов на мышках! Те, кто увлечен биохакингом, меняют образ жизни, питания и действительно выглядят моложе сверстников.
Антиэйджинг — это попытка раскрыть загадку жизни, найти ответ на вопрос: «Что я такое?». Сложный вопрос, но, как оказалось, не только философский, но и биологический, медицинский. Есть чем заниматься — жизнь не дает скучать!
— Ваш совет студентам и молодым ученым.
— Не хочу говорить банальности. Молодые люди и без всяких напутственных слов знают, чем им заниматься. Думаю, работает только одно — личный пример преподавателя. В процессе преподавания ты volens nolens демонстрируешь, что ты за человек. Учеников в первую очередь привлекает не наука, а твои человеческие качества.
Молодые сами со всем справятся, им нужен только прототип — тот, на кого можно равняться.