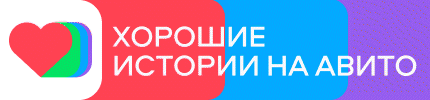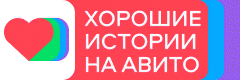Можно перейти из банковского дела в промышленность и дышать серными выбросами в Норильске, только если перед тобой стоит великая цель. В интервью специальному корреспонденту "Денег" Екатерине Дранкиной один из самых известных бизнесменов страны признался, что ему вообще присущ некоторый мазохизм, и объяснил, как разглядеть конкурентные преимущества России в ее базовых недостатках.
В 2001 году вы как-то вдруг перестали быть банкиром и уехали в Норильск, стали производственником. Что с вами произошло тогда?
— Это не со мной произошло, это со страной. Тогда, знаете, за три года до того случился дефолт, и банки в результате перестали быть пупом земли, а центр всего переместился в промышленность. А я люблю быть в центре. Были в центре банки — был банкиром, пошло производство — стал производственником.
А чего ждали три года?
— Три года разгребал завалы. В 2000 году, как вы помните, мы с огромным трудом реструктурировали ОНЭКСИМ-банк и объединили его с Росбанком. Это была самая тяжелая в моей жизни работа, наверное. Потому что у нас огромные были репутационные потери в кризис. А в итоге мы со всеми договорились, рассчитались и репутацию не потеряли.
Но создание Росбанка как банка-дублера для ОНЭКСИМа не так уж приветствовалось на рынке, наоборот, вас ругали за уход от обязательств...
— Но только это нам и помогло все обязательства выполнить. В отличие от многих других, кто не пережил дефолта. Лето 98-го мне до сих пор снится. Тогда мы занялись тем, чтобы "прибрать" Инкомбанк. До кризиса ликвидности на счетах был $1 млрд, казалось, что этого хватит за глаза. Когда объявили дефолт, в первую неделю ликвидность исчезла, потому что пошли многочисленные margin calls. И еще через две или три недели мы были должны около $2 млрд.
У вас с Потаниным не было разногласий тогда по сценариям действий?
— Нет, у нас разногласий не было. Я помню, что первые три дня я считал и не мог ничего понять: объем дыры не просчитывался. И тогда пришло понимание того, что спасти банк в чистой конфигурации невозможно. То есть, чтобы сохранить команду, а это самое ценное в банковской истории, нужно создавать банк-дублер. Да, нас пинали за это по полной программе. Мы стояли спокойно, уговаривали. И все получилось. Потом даже второе дыхание пришло, хотелось как-то закрепить опыт, взялись пореструктурировать еще пяток банков — кредиторку Инкомбанка купили, Мосбанка, еще кого-то... Я месяцев восемь этим позанимался, оказалось не очень интересно.
Скучно стало?
— Да, дальше нужна была новая сверхзадача. Я сел, подумал. Думал примерно две минуты. У нас тогда с Потаниным так было: незадолго до кризиса сделали компанию "Интеррос", которая стала управлять всеми активами группы. В холдинге я курировал всю финансовую систему, а он занимался промышленной политикой. И только я для себя решение принял, по поводу "Норникеля" приходит Потанин ко мне поговорить — мы с ним вместе тогда сидели, через коридорчик. Я ему озвучиваю идею, и он совершенно счастлив, потому что после ухода Хлопонина (а он незадолго до того ушел в губернаторы Таймыра) у него была головная боль с управлением "Норникелем".
Вы называли ваш союз с Потаниным идеальным. Сожалеете о том, что он так бесславно закончился? Что за кошка между вами пробежала?
— О том, что закончился бесславно, сожалею. Мы должны были продемонстрировать бизнес-сообществу столь же идеальный "развод", но вышло иначе. Со своей кошкой мы сами разобрались. Это между нами.
Вы ведь познакомились в 91-м, на заре капитализма. Хотя вы оба уже к тому времени были капиталистами опытными...
— Я успел вагоны поразгружать, "варенку" поварить и сделать карьеру в Международном банке экономического сотрудничества, где за три года дорос до начальника валютного управления. Поначалу, когда в банк пришел после кооперативной вольницы, было очень туго. Представляете человека, зарабатывающего 25-30 тыс. руб. в месяц и имеющего 500 человек, работающих в кооперативе? А меня посадили в подразделение корреспондентских отношений и заставили в пыльные папочки циферки вносить. Первые два месяца сходил с ума.
А почему остались?
— В некотором смысле я немного мазохист. Сказал себе, что нужно отработать год. И даже для собственного спокойствия написал заявление об увольнении без даты и положил в стол. И чтобы занять себя, стал ходить по другим подразделениям, интересоваться, как что устроено, и потихоньку начала возникать целостная картина. Я стал быстро двигаться по карьерной лестнице, но все это время вынашивал идею — создать свой банк. И когда Потанин пришел ко мне открывать счета, у нас возникла химия, мы даже про счета и не говорили. Говорили про все подряд, обсуждали, как мир устроен, а в итоге пришли к решению создать совместный бизнес.
Сейчас в интернете много негатива из Норильска, связанного с вами. Это с политикой связано?
— Нет, это раньше началось. Это, я так думаю, нынешний менеджмент действует. Там на самом деле в народе сейчас есть миф, что при мне было все прекрасно. Я-то не обольщаюсь по поводу этого мифа и не расстраиваюсь оттого, что его пытаются развенчать. Потому что такое мифотворчество в Норильске обычное дело. Просто там среда такая тяжелая: проходит два года, а в Норильске это как десять лет. Я тоже сталкивался с обожествлением своего предшественника, и мне это тоже мешало. Правда, черного пиара я ему не делал, старался иначе действовать — социальные программы там всякие, экология... Но и текущий менеджмент я понимаю: зачем состязаться с мифологией, когда мифологию можно пригасить?
Вы думаете, ваши программы дали позитивный результат — в экологии, например?
— Сделать из Норильска Швейцарию невозможно. Там проблема в том, что за год производство выбрасывает почти 2 млн тонн серы, которую утилизировать дорого и деть потом некуда. Экономически более оправданно — сделать комплексную систему, в которой часть серы утилизируется, часть выбрасывается за пределы города, а часть экспортируется в виде полупродукта для переработки в другие страны и регионы. Мы этот процесс системно начали и даже приобрели современный завод в Финляндии. Но в целом программу не закончили — коллеги, если захотят, завершат или сделают свою программу. Решать все равно надо. В Норильске я активно спортом занимался — помню, бегу я эстафету, а тут очередной выброс случается на предприятии. Лихо, я вам скажу, пришлось!
Могу представить...
— Но там и смешные вещи были. Например, как только мы установили новые фильтры, в определенную часть города стали возвращаться комары. И жители начали жаловаться. Или вот история замечательная с "вредниками"...
"Вредники" — это кто на вредном производстве работает?
— Точно, кто газом дышит, и у них особый статус, надбавки, все такое. Мы в первую очередь стали устанавливать специальные экологические системы в их цехах. Газа меньше — надбавки, соответственно, сократились. И тут же в оборудовании стали часто находить по паре напильников. Раз починили систему — снова ее ломают, еще раз починили — опять сломали. Я тогда пошел встречаться с "вредниками". Рассказываю про экологию, про планы. И обещаю им, что их зарплаты не пострадают. И тут мне один серьезный такой мужчина говорит: "Слушай, сынок, ты что, не понимаешь? Я "вредник". Я газом могу несколько часов дышать. Дольше всех. Вот этот мужик — он номер два, а вот номер три. А ты через несколько минут упадешь". То есть этот разговор был не про деньги, эти люди — они самураи. У них своя культура, и ее надо уважать. Это такая важная вещь про жизнь, что не всегда решение правильное является понятийно верным.
Философская история. И о чем договорились?
— Договорились, что потихоньку отправляем наиболее крутых "вредников" по их желанию на пенсию с доплатой по корпоративным пенсионным программам. А уже новый рабочий приходит на обычное рабочее место. Уже не на вредное.
Сколько вы там жили безвыездно?
— Если посчитать все вместе, то за шесть лет я был там где-то полтора-два года. Почти треть времени. Может быть, сентиментально прозвучит, но расставаться с Норильском тяжело было. Энергетика особая в городе, такой больше нигде нет.
И где вы теперь сверхзадачу видите — в политике или в бизнесе?
— О политике сейчас ничего не скажу. Но все равно где — в политике или в бизнесе — я вижу сверхзадачу одинаково: менять среду. В целом надо среду менять.
Сейчас многие думают о том, чтобы поменять среду, но это в смысле эмиграции в основном.
— Нет, не в этом смысле. Я-то остаюсь в любом случае.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
Из 17 активов, которые сейчас находятся в вашем портфеле, большинство практически не имеют отношения к традиционным отраслям. Что для вас является главным принципом в новых проектах?
— Я бы не сказал, что я против традиционных отраслей. У меня "Полюс Золото" есть — вполне традиционная отрасль. Пакет в "Русале" остался, есть компания "Интер-Гео" — очень интересная и перспективная, к 2016 году она должна выдать первый металл. Что-то обязательно должно быть в производственных активах, и в кризис нельзя сильно сокращать производственные мощности и персонал, так как сразу резко уменьшается мультипликатор. Вообще, наличие сильного производства — это фактор стабильности. Вот, например, в Германии 30% населения занято в промышленном производстве, и она легче всего пережила кризис.
Нужно также развивать сервисный бизнес, который в нашей стране еще недостаточно развит. При этом важно понимать, говоря о сервисной экономике, что в мире порядка 20% людей по своим психическим качествам не могут работать в сервисной сфере в принципе. Они готовы работать на заводе — есть привычка, навык, своя корпоративная культура, к которой она привыкли. А в нашей стране этот процент больше, у нас ближе к 40% людей в сервисе не готовы работать, включая госаппарат. То есть я за диверсификацию. И хотя бы 20% активов должны находиться в кэше или в состоянии, близком к кэшу, чтобы в тяжелый период помочь своему бизнесу, если рынки капитала закрыты. Это уже не раз случалось на моей практике, а в период кризисов случается периодически. И можно в этот момент поглотить задешево конкурента.
Но обычно крупный бизнес не вкладывается в инновационные отрасли. Ваше стремление к инновациям — это имиджевые шаги или прагматические?
— Я все делаю прагматично. Даже имидж (смеется). Но вообще я об имиджевой части не сильно беспокоюсь. Я был бы очень рад, если бы мы начали потихонечку излечивать наш национальный комплекс, что мы ничего не можем сделать. Это важно для всей страны. Но то, что бизнес не вкладывается в инновации,— это понятно. До того момента, пока инновации не станут способом выживания предприятия, то есть на микроуровне, этот посыл власти так и останется посылом. То есть нужна конкуренция. А у нас конкурируют между собой в разных секторах естественные монополии, и в результате все инновации имеют в основном PR-эффект. Они случаются, инновации, но в виде личных амбиций отдельного руководителя или создателя нового штучного, уникального проекта. Вот я приведу положительный пример. Любому губернатору сейчас в принципе нет никакого смысла развивать у себя на территории производство. Потому что если он сидит на трансферте, то те деньги, которые он заработает на открытии нового завода в виде налогов, у него вычтут из трансферта. Но все равно возникают губернаторы, как Артамонов в Калуге, которые считают своим долгом развивать. И он на свой страх и риск взял кредиты и создал кластеры, построил инфраструктуру и фактически делает российский Детройт.
А вы "Е-мобиль" тоже на страх и риск делаете?
— Ну моя мотивация посильней, чем у Артамонова. У меня амбиции тоже, конечно, но и заработать очень хочется.
Чем вы руководствуетесь при выборе новых проектов?
— Главный принцип — возможность сделать крупный бизнес. Проекты, которые не имеют шанса выйти на капитализацию $1 млрд, для меня принципиально неинтересны.
И вы считаете, что проект "Сноб" тоже выйдет на миллиард?
— Сначала они на самоокупаемость должны выйти. Если дальше продолжить слияние и поглощение, то да, выйдет. У меня другие активы есть в СМИ, РБК например. Имеет огромный потенциал.
Что позволяет вам верить в российскую экономику? Вы надеетесь на политические перемены, которые сделают экономику эффективнее, или рассчитываете сами осуществить эти перемены?
— Я считаю, что изменения неизбежны, чем бы лично я ни занимался. И верю в то, что они будут позитивными. Хотя в принципе может выйти и наоборот. Но я буду работать, чтобы эти изменения были позитивными. Да на самом деле нам не очень много нужно, чтобы эффективными стать. Я серьезно. Потому что у нас сейчас есть два мощных драйвера роста. Да, сейчас мы, как и много раз в нашей истории, зависли между Востоком и Западом. В Европе, у которой много сложностей, высокая производительность труда и высокие социальные расходы. В развивающемся мире низкие социальные расходы и быстрорастущая производительность труда. У нас производительность труда крайне низкая, а социальные расходы высокие. В условиях глобального кризиса у нас опять появился шанс перестать быть "островом невезения". Во-первых, у нас практически нет современной инфраструктуры и мы можем построить сразу инфраструктуру будущего, новейшую. Во-вторых, у нас настолько низкая производительность труда, что ее на первом этапе довольно легко повысить. Просто надо ставить амбициозные задачи.