“Ъ-Lifestyle” продолжает свое исследование темы депрессии и особенностей ее восприятия в стране, где походы к психологу по-прежнему остаются исключением, а не правилом. На этот раз журналист ОЛЬГА ВАГАНОВА отправляется в поиске ответов не только в Институт психиатрии, но даже и на съемки ТВ-программы.

По данным Всемирной организации здравоохранения более 350 млн человек в мире подвержены депрессии. Депрессия — самое распространенное психическое заболевание и главная причина самоубийств, не говоря уж о неявке на работу. Та же ВОЗ признается, что этот диагноз часто ставится или не ставится ошибочно. А в обществе, особенно российском, депрессию принимают за сплин, хандру и моральную распущенность.
Мы продолжаем исследование явления и разбираемся, кто и почему страдает от депрессии и где проходит граница между ложной и настоящей болезнью.
БЕДНЫЙ РОМА

— Вы, девочки, любите говорить, что жизнь прекрасна, — Роман затягивается очередной сигаретой и на минуту прикрывает глаза. — А я не согласен.
Мы сидим на кухне его московской квартиры, и я чувствую, как вслед за хозяином погружаюсь в вязкую меланхолию. В этой квартире все выглядит так же, как при жизни родителей Романа, советских профессоров.
Сам Роман — классический представитель научной интеллигенции, рефлексирующий, фриковатый и социально растерянный. Роману 37, он не женат, у него нет детей, нет машины, но вовсе не это делает его несчастным. Стать счастливым и легким ему мешает, как шутила одна из его подруг, «панцирь идеализма».
В 30 лет, устав бессмысленно истаптывать землю, Рома отправился в медицинский институт за спасением души. Хотел по-настоящему помогать людям, считая это долгом каждого нормального человека. А свои домедицинские годы в статусе филолога, преподавателя МГУ и репетитора по языкам записал в напрасно прожитые.
В 36 Роман, как и планировал, стал ординатором кардиореанимации, где его поджидала очередная мировоззренческая катастрофа. Оказалось, что, несмотря на все усилия врачей, люди страшно болеют и умирают. Больничные запахи старости, мочи, лекарств... Вовсе не так пахли мечты Романа о подвиге.
— Ты такая красивая, — улыбается мне Рома. — Молодая, здоровая, и от тебя ничем не воняет.
Эта фраза — пролог к физиологичным медицинским историям, которыми молодой доктор любит пугать нас, своих друзей.
Его навеянные пациентами рассказы про неизбежность старения, тления и смерти ближе к подростковой картине мира, чем к здоровому профессионализму взрослого человека. Бойкие медицинские байки, которые обычно травят доктора, Роману-рассказчику не даются, как не дается и дистанция в виде цинизма уязвимой Романовой душе.
— Чем она хороша?! — вдумчивые еврейские глаза вспыхивают гневом в ответ на мою попытку сказать банальность о прекрасности жизни. — Через каких-то 15 лет я буду ходить под себя, умирать. И выбора нет, — резюмирует Рома.
— Выбор есть. Например, купить клеенку на стол без подсолнухов и привета от бабушки, — советую я.
Мой друг не пытается наладить быт на современный лад — старомодные настенные часы задают ритм нашим невеселым посиделкам. А от цветочков на клеенке рябит в глазах после выпитого вина.
В пренебрежении Романа к материальному есть какой-то беспомощный нигилизм. И вся его трагическая концепция могла бы показаться позой, игрой, но он носит ее за собой повсюду как ценный портфель. «Хотя какая там игра», — думаю я. Что это, тонкая интеллигентская рефлексия, патологическое неумение видеть хорошее или болезнь?
Роман кажется идеальным персонажем — отправной точкой для выполнения редакционного задания.
Ставить диагноз своему другу я отправляюсь к Виктору Ханыкову, научному сотруднику Московского НИИ психиатрии. Институт психиатрии — ведущее учреждение в стране, где занимаются изучением и лечением психических расстройств.
БОЛЬНИЦА

Как я и ожидала, территория НИИ оказалась пустынным тихим местом: три лысые сосны, словно заблудившиеся души, и аккуратные корпуса вдали от дороги. Людей почти не видно, только иногда мелькают фигурки в белых халатах, плохо различимые на снегу. То ли врачи, то ли мрачные призраки советской психиатрии. Мне нужен корпус института, в поисках которого я обхожу все вдоль и поперек и натыкаюсь на несколько драматичных картин. Вокруг скамейки суетливо ходит человек с опрокинутой головой — то ли женщина, то ли мужчина. Еще один бесформенный и бесполый сидит на скамейке и непрерывно бормочет. У обоих отсутствующий взгляд и страшно испорченная кожа лица, как будто по ней проехался тяжелый каток.
Из-за угла появляются две санитарки.
— Чего только не учудят, — устало смеясь, говорит одна другой. «Как будто про кота», — думаю я.
Трагизма становится меньше, когда я наконец оказываюсь в нужном месте — в клиническом корпусе НИИ, где проходят лечение в том числе и депрессивные больные. Я как раз попадаю туда в часы приема посетителей, и многие пациенты спускаются в холл. Если бы не вязаные носки и домашние тапочки, пациентов было бы не распознать. Неудивительно, что депрессию как диагноз в обществе ставят под сомнение и путают с хандрой.
Виктор Владимирович Ханыков встречает меня дружелюбным рукопожатием и провожает в свой кабинет. Вопреки страшилкам о психиатрах он оказывается приветливым, по крайней мере, в беседе.
Мы идем по коридору отделения, справа мелькают опрятные трехместные палаты, где, задрав ногу на ногу или уткнувшись лицом в подушку, скучают пациенты. На ресепшене улыбается медсестра в розовом чепчике.
Здесь нет въедливого больничного запаха и пугающих картин физического страдания. Не скрипят каталки, никто не кричит и не стонет, из процедурок не валит тошнотворный спиртовой смог. Ощущение затянувшегося сончаса, добровольно устроенного в собственной жизни.
— Напоминает санаторий или дом отдыха, — замечаю я вслух.
— В каком-то смысле — да, некоторые пациенты так нас и воспринимают, — разделяет Ханыков мое миролюбивое сравнение. — Однако многие наши пациенты принимают серьезные психотропные препараты. Иногда им ставятся достаточно тяжелые диагнозы, среди которых и депрессия.
Я описываю психиатру случай Романа. Мне хочется понять, заслуживает ли врачебного приговора подобный взгляд на мир и может ли мировоззрение вообще быть диагнозом. А если депрессия никак не связана с восприятием, то что это за болезнь?
— Дело в том, что до врача депрессивные больные обычно доходят уже на фоне явных социальных последствий, — объясняет Ханыков. — При попытках самоубийства или когда человек теряет трудоспособность, перестает вставать с дивана, интересоваться чем-либо. Тотальное отсутствие радости и живых эмоций также может привести человека к психиатру. У вашего знакомого, скорее, есть потенциал к депрессии, «эндогенинка», и очевидно она ему не мешает. Ведь он не обращается за помощью.
Эндогенной врачи называют депрессию, идущую изнутри и никак не связанную с внешним стрессом.
— А правда ли, что виной таких состояний становится «неправильная» химия мозга? — спрашиваю я. — Ведь мозг болеет, как и любой другой орган. И тогда патологический пессимизм, например, можно рассматривать как нарыв или опухоль?
— Конечно, все, что происходит в мозгу, имеет эквивалент в виде химических и физиологических реакций. Другое дело, что то, что мы называем психикой, не есть химия и не есть физиология. Это нечто, что возникает при соответствующих процессах, подобно магнитному полю вокруг тока. Как именно возникает, не решено до сих пор и, вероятно, не будет, — разводит руками врач.
Мы заходим в его кабинет, где непрерывно звонит телефон. Спрашивают про дозы препаратов, бессонницу, тоску — то, что успеваю понять из ответов.
Виктор разговаривает без покровительства, спешки, как это часто бывает у врачей, привыкших обращаться с пациентами как со зверьками.
— Как же тогда лечиться, если о природе психики мало что известно? — спрашиваю я.
— Физиология и психика — это две сущности, которые связаны друг с другом как бы резиновыми канатами, — Ханыков растягивает в воздухе воображаемую веревку. — Поэтому если смещается физиология (изменение нейрогормонов, серотонина, дофамина), то следом за ним (и не всегда сразу) идет психика, и наоборот: внешний стресс может повлечь за собой изменение физиологии. В любом случае лечение антидепрессантами принесет пользу в большей или меньшей степени и поставит эмоции на место.
Виктор рассказывает еще много интересного. Например, что одна из самых подверженных депрессиям наций — евреи, но при этом число самоубийств у них почти самое низкое в мире. И про то, что депрессия у творческого человека — это своеобразная оптика, через которую он может более глубоко взглянуть на мир.
Но что делать с заразительной тоской Романа, я так и не выяснила. Нет и точного ответа, что с ним происходит: болен ли Роман или его подводит печальная картина мира, нужно ли ждать, пока депрессия накроет его с головой или пора обращаться к врачу.
— Поставить диагноз заочно нельзя, — отрезал Виктор. — А хотите поговорить с пациенткой, которая недавно выписалась из отделения? У нее классическая депрессия.
Я соглашаюсь, и мы прощаемся таким же теплым рукопожатием, как и при встрече.
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ
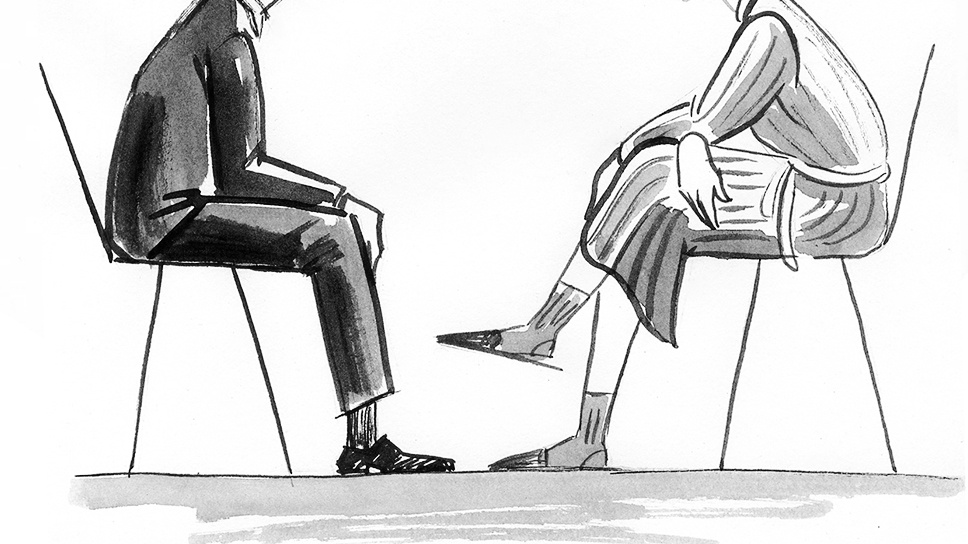
Ане 28 лет, диагноз «депрессия» ей поставили в 17, с тех пор она периодически проходит лечение в стационаре. Она только что в очередной раз выписалась из больницы и согласилась встретиться со мной, позвала в гости.
Аня — обычная молодая женщина, жительница мегаполиса, без черных меток в биографии, без зависимостей от алкоголя и наркотиков. Единственный фактор, располагающий к депрессии, — плохая наследственность. Отец девушки пил, вследствие чего сошел с ума.
— Чай будете? — неохотно спрашивает Аня.
— Не откажусь.
С брезгливой осторожностью, будто на чужой кухне, она включает газ, достает скрипящие по блюдцам чашки.
Вообще вся квартира выглядит беспризорной и лишенной повседневного быта. Такой, словно все жизни в ней прожиты, остались только стены под снос.
— Как бы вы описали свое состояние? — с торжественным участием спрашиваю я.
— Вялость, апатия, эмоциональная холодность, — равнодушно говорит девушка. И мне кажется, что в ее голове шуршат тараканы.
Это как просить гриппозного больного описать грипп в надежде услышать что-то новое, помимо чихов и температуры.
За годы депрессивного состояния круг знакомых, сомневающихся в диагнозе Ани, значительно сузился.
— Когда в 18 лет у меня начались панические атаки и пришлось взять академ в институте, мама так расстроилась, что перестала со мной разговаривать. Считала, что это ерунда. Но сейчас верит и поддерживает.
Она ставит на стол две чашки с заваренным прямо в них чаем. Заварка всплывает, превращая чай в мутную кашицу. Пить это можно, но не хочется.
— Не хочется совсем ничего, — кстати замечает Аня.
Она не романтизирует свою хандру и не ссылается на творческий кризис, не сравнивает себя с героинями голливудского фильма «Прерванная жизнь» и знаменитыми писателями, страдавшими от депрессии. На это нужны силы и амбиции, которых у Ани, похоже, нет. Она выглядит усталым человеком, которому просто делают уколы.
В отличие от Романа, Аня признает ценность жизни, но никак не может почувствовать радость.
— Я так завидую людям, которых волнует море, красивый закат, утренний кофе. Я потеряла способность воспринимать все это. Чувствую себя деревянной.
На холодильнике я замечаю несколько магнитов из путешествий — робкие признаки жизни в квартире.
— А как вы зарабатываете?
— Работаю фотографом, — с нотками оправдания в голосе отвечает Аня. — На лингвиста я так и не доучилась, хотя могла. Просто задумалась, к чему все это. Я не видела себя ни переводчиком, ни преподавателем...
Поиски смысла везде и во всем — вот что все-таки объединяет Романа и Аню. Подростковая непримиримость, идеализм и грубое обращение с нюансами жизни. Им тесен кафтан обыкновенного счастья. Про таких говорят «горе от ума».
— Мне вообще многое кажется бессмысленным, хотя я знаю, что это приносит удовольствие. Каждый может поехать отдыхать и накачать мускулы в тренажерном зале. Вопрос не в том, чтобы лететь в космос, а в том, чтобы эти обыкновенные вещи были в радость, — резюмирует Аня.
Она грузно сидит на стуле в домашнем потертом костюме и пьет чай с плавающей в кружке заваркой. Ей на колени лениво прыгает здоровенный кот — такой же безразличный. Я вдруг испытываю приступ раздражения. Удобная позиция — в ней даже есть привлекательность, ты как бы независим от жизни и тем самым чуть выше всех остальных. Но тут же одергиваю себя. Уколы, больница, диагноз.
Это не позиция, а болезнь. Или нет?
ПЕРЕЗАГРУЗКА

К началу 2000-х в России сложилась отличная от советской модель счастья с культом внешнего благополучия. Тогда же на экранах появились десятки шоу формата «преображение», тиражирующих экспресс-коррекцию хронических неудачников. Эпоха зверского глянца осталась позади, идея счастья по рецепту немного поскучнела, но никуда не делась. Ее живучесть доказывают многие современные проекты. Например, шоу «Перезагрузка» (канал ТНТ) силами психолога, стилистов и врачей помогает отчаявшимся девушкам быстро прийти в себя. Слово «депрессия» там звучит чаще, чем в кабинете психиатра. Я решаю заглянуть на запись программы.
Поиски съемочного цеха в одичавших коридорах бывшего завода символично превращаются в квест «выберись к свету».
— Кажется, здесь, — пиарщица ТНТ Юля толкает тяжелую дверь. — Наши хоромы. Она показывает на пластиковый салон красоты и маленький подиум для победного выхода героини. Все это напоминает интерьеры куклы Барби с их крошечным совершенством. Тот случай, когда скромный бюджет сдерживает потенциальную пошлость. На площадке обыкновенный рабочий процесс. Тут и там бегают люди, слышен смех, раздраженные замечания.
Я знакомлюсь с первой сегодняшней героиней «Перезагрузки», 24-летней Кристиной. В анкете Кристины было что-то про раннее замужество, двоих детей и общую потерянность. Но главной целью участия в шоу стало вовсе не избавление от депрессии, а возможность сделать новую большую грудь.
— После родов она уменьшилась до первого размера, хотя всегда была четвертого, — жалуется девушка.
У второй участницы Маргариты проблемы посерьезнее: она тяжело переживает гибель мужа, в которой винит и себя. Однако и она не производит впечатления угнетенного человека. Бывшая спортменка-бодибилдер, крепкого телосложения, с очевидным здоровым оптимизмом.
— Слава богу! Среди наших героинь по-настоящему депрессивных нет! — ужасается психолог Виктор Пономаренко в ответ на мой вопрос про депрессию.
Виктор отвечает в программе за «психобработку», играя роль заботливого брюзги.
— Имеются в виду бытовые расстройства — хандра, упадок сил, снижение настроения, иногда это называют субдепрессией, — вкрадчиво перечисляет Пономаренко, готовый развернуть большую лекцию по психологии. Себя он сравнивает с автомехаником, который чинит неисправный механизм. В его рассказе постоянно мелькает какая-то математика, задачи, алгоритмы, решения. Психолог убежден: для достижения цели достаточно следовать инструкции.
«Перезагрузка» — честное шоу. Вместо того чтобы давать лукавые советы психопопсы из разряда «как стать, ничего не делая», участницам предлагают конкретные действия на пути к успеху.
Финальные съемки — результат преображения девушек после манипуляций стилиста. Маргарита, увидев себя в зеркале, радуется, удивляется, кокетничает и стесняется — проявляет полный спектр эмоций, на который депрессивный человек просто не способен.
— Все в наших руках, и мы сами, — на прощание психолог Виктор Пономаренко почему-то говорит банальность.
Но что тут ему возразишь?
ЦЕРКОВЬ

Поговорить о депрессии со священником было задачей очевидной. Церковь — верховная инстанция, куда может обратиться всякий заблудший, особенно тот, кто заблудился на внутреннем пути. Для разговора я нахожу батюшку с необычной биографией, который может порассуждать о депрессии и как священник, и как врач. Отец Валерий Ларичев, настоятель храма Флора и Лавра в подмосковном селе Ям, перед тем как принять сан, долгое время проработал психиатром в отделе суицидологии Московского НИИ психиатрии. Священником стал уже в 1990-е и восстанавливал разрушенный храм на свои средства.
Я приезжаю в храм к окончанию службы. На подворье богомольная суета: полушепот, молитвы, наспех крестятся старухи. Прохожу вглубь двора. Настоятельница храма приглашает меня в дом, подождать отца Валерия.
В прихожей уютно пахнет деревенской избой, внутри дома, в комнатах, избыточно много икон, куда ни обернись — увидишь лик Христа. Из кухни долетают обрывки монашеской беседы: «Поедем туда, там красота такая». Так разговаривают, когда рядом спят малые дети или свершается таинство.
Наконец, появляется отец Валерий, старец с послушной седой бородой. Когда он переступает порог, глухой разговор монахинь утихает, и весь дом обращается в покорную тишину.
Батюшка жестом приглашает сесть. За убранством священнослужителя не сразу заметишь чуть насмешливые, умные глаза.
— Депрессия — это медицинский диагноз, делится на эндогенную и экзогенную, — говорит Ларичев-врач. — А вот уныние — это грех, — продолжает Ларичев-священник. — Разобраться, что где, порой очень сложно. Ошибаются и священнослужители, которые принимают депрессию за уныние, и врачи, которые подменяют духовное лечение таблетками.
Договорив, он опускает глаза, и его лицо становится непроницаемым. Даже будучи священником, он признает едва различимую грань между болезнью души и ее капризами.
— Что же такое уныние? — снова тревожу я отца Валерия.
— Это отсутствие смирения. Например, у человека тяжелая болезнь или умер кто-то близкий. Сказать «Господи, на все воля твоя» может далеко не каждый.
— Получается, что священнику не мешало бы иметь образование врача, а врачу — быть верующим? — спрашиваю я.
— В идеале — да. Но труднодостижимо и то и другое. Медицинское образование одно из самых сложных, получить его могут далеко не все. И врачей-атеистов, которые все проблемы считают проявлением материалистических процессов, предостаточно, — со смирением к ситуации говорит батюшка.
— Но неужели церковь никак не может помочь и человеку в депрессии?
— Почему же. В некоторых случаях может. Блаженный нищий духом — это замечательная духовная позиция для любого человека. Если он сумеет ее принять, она освободит от гордыни и научит смирению. А ведь именно гордыня иногда становится причиной болезни, — в речи отца Валерия впервые появляются нотки проповедника.
Отчего-то становится радостно, что к батюшке вернулся догматизм священнослужителя.
За окном стремительно темнеет, в доме снова появляется шепоток монахинь, потрескивает свечка.
Я собираюсь уходить, и отец Валерий вызывается проводить меня до ворот.
— Какая яркая ночь! — не сдерживаюсь я, глотнув с избытком ночной прохлады. Густое синее небо и купол храма, едва различимого в темноте...
— Все в руках Божьих, — в прощальном напутствии склоняет голову батюшка.
И с этим опять же не поспоришь.
ПОСЛЕСЛОВИЕ

В России депрессия вышла в топ заболеваний вместе с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями. Тем не менее в обществе, куда психотерапия как цивилизованное явление пришло каких-то 20–25 лет назад, этот диагноз продолжает восприниматься как непозволительная роскошь. Неудивительно, ведь в СССР стесненные обстоятельства жизни, а также превосходство общественного над личным отстранили тонкие материи вроде души на второй план.
Впадание в тоску считалось бы в Стране Советов проявлением крайнего индивидуализма. Но это не значит, что никто в нее не впадал. Врачи утверждают, что проследить динамику заболевания, к примеру, за последние 50 лет — задача не из простых. Обращений к специалистам с депрессивными симптомами, конечно, было меньше, но сама болезнь была распространенной. Это как шизофрения или сердечный приступ: из года в год число пострадавших примерно одинаковое.
Но, даже возникнув из советского небытия, наше личное «Я» не захотело поверить в странный диагноз. Западная культура, пришедшая вместе с перестройкой, поставила депрессию в один ряд с творчеством, ментоловыми сигаретами и богемной жизнью. Депрессией, например, страдал и кумир оттепели Хемингуэй. Врачи же настаивают на том, что, каким бы ни был образ депрессивного человека в обществе, на болезнь это никак не влияет. Так же как не влияет на количество депрессивных положение дел в стране и экономике.
____________________________________________________________________
Иллюстратор: Маша Захарова

