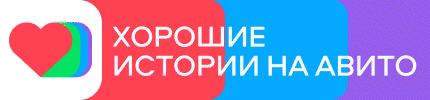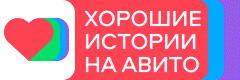«Здесь быстро учишься, иначе быстро умираешь»
Корреспонденты «Ъ» передают из Мариуполя
В выходные в Мариуполе продолжались бои российской армии с украинскими военными, засевшими на территории завода «Азовсталь». В других частях города уже вроде бы не стреляют — но мирным жителям не хватает продовольствия и связи с потерянными родственниками. Журналист “Ъ” Александр Черных и фотограф Анатолий Жданов послушали рассказ военного из ДНР, поговорили с горожанами об их проблемах и побывали на «дворовых» похоронах.

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Из Донецка мы выезжаем рано утром, когда многоэтажка с огромной надписью: «Русский Донбасс» еще скрыта густым туманом. Быстро проскакиваем первые блокпосты. На дороге обгоняем БТР; чертовски холодно, но прямо на броне сидит девушка в камуфляже, ее длинные светлые волосы треплет ветер. На рукаве — повязка определенных цветов, отличительный знак российских и пророссийских военных. Наш водитель восхищенно цокает языком: «Эх, хороша! В четырнадцатом году у нас тоже много девок боевых было...»
Я знаком с ним второй день, но уже знаю: он был одним из тех жителей Славянска, кто «первыми к Стрелкову тогда присоединились» (имеется в виду вход в город отряда Игоря Стрелкова весной 2014 года; считается, что с этого момента конфликт на юго-востоке Украины перешел в вооруженную плоскость.— “Ъ”). Ранение, две контузии, отступление; с тех пор он живет в Донецке и восемь лет не видел дом и семью. Но на вопрос: «Стоило оно того?» отвечает: «Еще бы». Вот только нынешний Стрелков его разочаровывает, да и Россия «пришла очень поздно».
Проезжаем пустой пограничный пост, солидно укрепленный покрышками и усиленный окопами. «За восемь лет нарыли, молодцы»,— цедит сквозь зубы водитель. Дальше — территория, которая еще недавно контролировалась Украиной. Мчим по трассе вдоль полей, зеленеющих весенней травой; иногда в ней встречаются черные проплешины — воронки от снарядов. На обочинах воткнуты таблички: череп с костями и одно слово на русском: «Мины». Аналогичные предупреждения встречаются и на украинском, только в формате большого билборда и с уточнением: нельзя съезжать с дороги. Наконец перед нами развалины небольшого шахтерского городка. Дома и цеха разбиты и пусты. Я фотографирую их через окно, но водитель смеется: «Это еще не война. Это история. Как Союз развалился, здесь все постепенно стало закрываться и сыпаться. А ты спрашиваешь, почему все это началось».
Я, кстати, ничего не спрашивал.
На блокпосту «донецких» выходит заминка. Там, где журналистов без проблем пропускали прошлые три дня, теперь проезд запрещен — без объяснений. Приходится долго ехать в обход, мимо небольших одинаковых поселков — уже вроде бы не украинских, но пока еще непонятно чьих. Мелькают пасторальные картины сельской жизни — люди сажают картошку в огороде, подметают площадку у небольшой церкви... А через пару минут — сгоревшее придорожное кафе; чуть дальше навстречу нам едет небольшая группа военной техники с буквами Z на броне. Иногда за окном чернеют искореженные остовы автомобилей.
Перед Мариуполем — еще один блокпост. Здесь на выезд стоит длинная колонна гражданских машин; почти у всех на антеннах и дверных ручках повязаны белые лоскуты, у многих на стекле и бортах надпись: «Дети». На обочине валяется плакат: «Довезите в Горловку, Донецк». Еще пара километров — и начинается то, что когда-то было городом.
Многоэтажки торчат обугленными спичками: первые этажи вроде бы целы, а наверху все черно — квартиры выжжены или разрушены. Невысокие дома будто обгрызены с разных сторон — снаряды выдрали из них целые куски. Дорожные знаки похожи на решето. Под вывеской «Цветы» — дверь, на которой из баллончика выведено: «Люди».
Поражает дьявольская избирательность: возле целехонькой остановки стоит сгоревший дотла автобус. Развалины небольшого ТЦ — и рядом красный билборд «VIP мебель второй этаж». У разрушенной пятиэтажки — нетронутый киоск; все вокруг черно, а здесь с яркого рекламного плаката улыбается футбольный болельщик с бутылкой пива. У остатков заправки — снежно-белая цистерна с надписью: «Вогненебеспечно». На столбе ветер треплет желто-голубой украинский флаг, рядом над магазинчиком автозапчастей развевается российский триколор; оба они кажутся инородными деталями на фоне выгоревшей дочерна пятиэтажки.
Самое жуткое в том, что улицы Мариуполя неотличимы от десятков российских городов. На первых этажах — точно такие же аптеки, цветочные магазины, пивные разливайки и банковские отделения. Только бренды другие — но теперь и это отличие стерлось. Вернее, сгорело.
В этой части Мариуполя относительно людно — здесь можно получить гуманитарную помощь. Жители других кварталов добираются на велосипедах, некоторые увозят паек в магазинных тележках или детских колясках.

Очередь за гуманитарной помощью
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Очередь за гуманитарной помощью
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Мы едем дальше; журналистская аккредитация позволяет быстро пересечь городские блокпосты. Останавливаемся наугад у разрушенного «детского кафе»; на газоне валяется табличка «Вход в магазин строго в маске», рядом — матовый металлический цилиндр с надписью: «РДГ-П». Вот так 2020 год встретился с 2022-м.
Захожу во двор очередного «обгрызенного» дома. Снимаю на телефон яркие шерстяные носки, которые сушатся на оконной решетке. И слышу за спиной:
— Не надо тут фотографировать, пожалуйста. Мне неприятно, что люди это увидят.
Илоне* на вид лет 60, на ней спортивная флисовая кофта (когда-то светлая) и засаленные горнолыжные брюки; руки с облупившимся маникюром сжимают грязную доску. Она перехватывает мой взгляд: «Вы, молодой мужчина, скажите мне, разве можно женщине так выглядеть?»
— А дрова пилить женщине можно? — доносится с другого конца двора. Подруга Илоны — в фуфайке, косынке и запачканных угги — прямо на бетонной клумбе распиливает ножовкой похожую доску.— У меня, между прочим, высшее образование.
— А у меня два,— говорит Илона.— Я экономистом была до пенсии. Непохоже, да? Вы не смотрите, как мы сейчас выглядим,— это мы с февраля не мылись, вот сегодня первый раз удалось носки постирать. А так — мы такие же, как вы в России.

Проведение специальной военной операции в Мариуполе
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Проведение специальной военной операции в Мариуполе
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Женщины соглашаются поговорить, но строго-настрого запрещают включать диктофон: «Кто знает, какая власть будет. И что ей не понравится».
— Мы жили так же, как вы,— повторяет Илона.— Мы пили кофе в кофейнях, ходили в кино, в филармонию. У нас знаете какая филармония была! А какой театр!
Да, я знаю. Теперь весь мир знает про мариупольский театр.
— Я хоть и пенсионерка, но активная, я каждую зиму ездила на горных лыжах кататься. У меня была пенсия, у меня был вклад, пусть небольшой, но мой, честно заработанный. Я знала, что со мной будет завтра. И что теперь будет с моей жизнью? Ничего не осталось.
— Вы же из России? — уточняет ее подруга. — И что у вас в России про нас говорят?
— По телевизору говорят, что наши военные вас освободили.
— Освободили? — повышает голос Илона. — И от чего вы нас освободили? От нашей филармонии? От нашей пенсии? От нашего города? Ну спасибо вам. Вы знаете, мы 23 февраля весь день звонили-писали, поздравляли наших знакомых мужчин. Да, в Украине такого праздника нет. Но мы-то помним про него. Позвонили, поздравили. А через день — началось… И с кем! С людьми, которые накануне тот же праздник отмечали.
— То есть вам хорошо жилось в Украине?
— Это провокационный вопрос,— Илона резко обрывает разговор и даже делает шаг назад.— Я знаю, что вы хотите. Я на такой вопрос отвечать не буду.
— А я отвечу,— спокойно говорит вторая женщина.— Вот знаете, мы не всем были довольны. Пенсия маленькая, ну да. ЖКХ дорогое. Мэром нашим мы были недовольны, это правда. Ну и что? Вы своего тоже, наверное, поругиваете?
— Бывает,— признаюсь я.
— Ну вот видите. Но это обычные проблемы. Не стоило из-за таких проблем сносить весь наш город.
Постепенно Илона оттаивает и начинает рассказывать мне, каким замечательным был Мариуполь еще два месяца назад:
— У нас такой был чистый город, самый чистый в Украине. А теперь такая грязь... Мне это так неприятно... Двор-то мы уберем сами, а что с городом делать? Где наш мэр?
— И кто вообще у нас теперь мэр? — добавляет ее подруга.
Напоследок Илона приглашает меня приехать и посмотреть настоящий Мариуполь, «когда все закончится». Когда я выхожу из двора, она окликает меня:
— А по-хорошему — приезжайте-ка вы сами помогать все это убирать.
Подождите на проходной

Пожилой мужчина едет на велосипеде на одной из улиц в Правобережном районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Пожилой мужчина едет на велосипеде на одной из улиц в Правобережном районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Следующая остановка — у баррикады из сгоревшей коммунальной техники. От нее я выхожу к расстрелянному автомобилю, под ногами хрустит битое стекло. На водительском сиденье — мертвец. Голова на руле, лицо уже даже не белое, а пепельно-серое. Я знаю, что подходить к телам нельзя, они могут быть заминированы. Поэтому разворачиваюсь и ухожу, даже не узнав, мужчина это или женщина. На ручках дверей автомобиля понуро висят белые лоскутки. Они ничем не помогли.
Через несколько метров — еще одно тело; мертвый человек лежит на животе, кто-то прикрыл голову курткой. От него ощутимо пахнет, хочется заткнуть нос и отвернуться. Вдруг сверху раздается звук, похожий на выстрел; мое сердце разом делает десяток ударов в секунду, лицо горит, челюсти сами сжимаются до хруста. Я застываю и поднимаю голову. На уцелевшем балконе одного из верхних этажей стоит девушка с полотенцем в руках. Она смотрит мне в глаза и еще раз громко встряхивает тряпку. Я отвожу взгляд первым.
Чуть дальше* — «располога» отряда ДНР. Российские военные (за исключением чеченцев) отказываются разговаривать с журналистами без разрешения начальства; у «донецких» таких ограничений нет. Боец Иван* — совсем молодой, немного за двадцать — легко соглашается отвести нас «туда, где интересно». Кажется, сейчас ему просто скучно. Он предлагает показать место недавних боев, комплекс зданий завода «Азовмаш».
— Вот их дом культуры,— кивает он в сторону относительно целого здания с выбитыми стеклами.— Неделю назад был под укропами еще. Меня тогда как раз вот тут затрехсотило немного (армейский сленг, «трехсотый» значит «раненый».— “Ъ”). Но потом уже раскатали их всех, полностью.
— Куда вам попало?
— Да не попало, тут другое... Смотрите, этот проулок тогда полностью простреливался. Либо пулемет, либо снайперы. И, чтобы зайти на ДК, надо было пробежать из двора вот прямо здесь, где мы стоим.
В животе неприятно холодеет.
— Ну вот, мы бежали зигзагами... Командир первый пробежал, снайпер стрельнул — мимо. Я вторым, он снова мимо. Но там дальше, возле угла, такая ямка — и я в нее влетел. Потому что с другим броником шел, он килограмм под двадцать. Равновесие потерял и со всего размаха грохнулся, разворотило руку на битом стекле.
Подходит еще один «донецкий» — полноватый молодой парень в очках, совсем непохожий на солдата.
— Слушай, мы сейчас говорили с гражданскими...— начинает он.
— А они не сказали, жмуриков своих будут забирать? — перебивает его Иван.— Они лежат там, бедные, уже полторы недели. Скоро разваливаться начнут.
— Да знаю... ну там народ вроде нашли, уже будут разбираться.
— А кто тут трупы убирает? — спрашиваю я.
— Местные,— говорит Иван.— Потихоньку, кто кого знает. А если никто не знает... ну вот эти двое лежат, я знаю точно, неделю. Повезло еще, что тут было холодно. Только вот начинает теплеть, и ароматы уже начинают... совсем не лаванда. Местные тоже уже охерели от жизни такой: «Земля мерзлая, мы не можем копать». Думают, это наша обязанность, как же. Ладно, почапали на промку. Данила*, подежурь, я для прэссы экскурсию проведу.
На постсоветском пространстве такие места называют заброшками. Обычно это развалины советских заводов или воинских частей — пустые цеха и заброшенные здания, куда забираются школьники, играющие в сталкеров. И здесь вроде бы тоже типичная заброшка — обгорелое железо, битое стекло, какие-то документы, смятая доска почета, стандартная аллея чахлых елок, которая заканчивается бюстом важного для завода советского человека. Да что рассказывать, вы и так знаете, если родились на рубеже 80-х и 90-х.
Только обычно в заброшках не стоят горелые танки. И не валяются расплавленные гильзы. И под еловыми лапами лежат шишки, а не бронежилеты.

Поврежденная военная техника на улице в Кальмиусском районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Поврежденная военная техника на улице в Кальмиусском районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Зато именно сейчас здесь цветут абрикосы.
Иван приводит нас к проходной завода. Рухнувший козырек завалил половину автомобиля; все выгорело дотла. Из кустов выбегает тощая такса и увязывается за нами. Фотограф Толя Жданов кидает ей кусок колбасы, специально припасенный на такой случай; собака нюхает, но не ест. Накануне знакомая донецкая журналистка рассказывала мне: «Я в начале недели видела в развалинах Мариуполя такую красивую собаку. Прямо как у моих родителей, породистую. Начала ее гладить, она лизалась... а потом я подумала: она ведь наверняка ела трупы, иначе как она тут выжила?» Я смотрю на таксу, в животе снова нехорошо. Та смотрит на меня и убегает обратно в кусты.
У проходной завода валяется несколько касок; на голубом пластиковом стульчике — картонные коробочки с автоматными патронами; под ним небольшая пирамидка взрывателей от противотанковых мин. Иван показывает на пластмассовый поддон — в таких обычно привозят пиво в магазины. Сейчас там стоят бутылки, заткнутые тряпками.
— «Коктейль Молотова» видели когда-нибудь? Для нас его готовили. Не успели.

«Коктейли Молотова»
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
«Коктейли Молотова»
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
На первом этаже завода темно, приходится подсвечивать телефонами. Тусклый луч выхватывает гильзы и обрывки упаковки бинтов. Два шага дальше — стул вахтера, на котором висит бронежилет. За турникетами длинный коридор; там, во мраке, угадывается геометрия металлических шкафчиков, а за ними что-то совсем нехорошее. Как локация компьютерной стрелялки, в которую пару лет назад наверняка играли и Иван, и стоящие на другой стороне бойцы ВСУ,— и все мальчишки, что родились на рубеже 80-х и 90-х. Вот только здесь по-настоящему пахнет горелым и, кажется, мертвым. Я стою в темноте и пытаюсь не сблевать от страха и отвращения. Потом выхожу, держась подальше от пирамидки взрывателей. Иван равнодушно проходит совсем рядом с ними.
Пока мы идем обратно, он немного рассказывает о себе. Из Донецка, 24 года, окончил школу, работал автомехаником, мобилизовали. «К основному подготовили, а потом... Ну а что сказать, боевому опыту никто не научит,— говорит он.— Здесь всему и научились. Здесь быстро всему учишься. Иначе быстро умираешь».

Последствия обстрела в Кальмиусском районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Последствия обстрела в Кальмиусском районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Как приятно встретить земляка»
Мы прощаемся с Иваном и Данилой. «Берегите себя, парни»,— говорят они (!) нам. «И вы». Бойцы уверяют, что «рядом все чисто», поэтому я иду наугад от «распологи» ДНР. Слышна артиллерийская канонада; далеко, но на открытом пространстве дороги все равно очень неуютно. Поэтому стараюсь жаться поближе к разрушенным домам — как будто они могут дать защиту. Через пару кварталов* из двора слышится мерный скрежет; я осторожно заглядываю туда и вижу белый микроавтобус, на котором большими красными буквами написано: «Дети». Лобовое стекло даже не разбито, а раздавлено — как тонкий лед, на который наступили ботинком. Сбоку в треугольнике буквы «Д» зияет большая дыра, вокруг россыпь отверстий поменьше.
Рядом стоит дедушка с седой бородой. Он громко шкрябает по асфальту тяжелой садовой лопатой, медленно сгребая в кучу обломки.
— Я из России. Можно с вами поговорить?
— Да почему ж нельзя. Вы ж такой же человек, как и я.

Последствия обстрела в Кальмиусском районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Последствия обстрела в Кальмиусском районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Дедушка Вася жил в Каменске — поселке под Мариуполем. В первые дни войны рядом упал снаряд; у всех домов на улице Каменской вылетели стекла. Потом через поселок проехали военные: «Я не знаю какие, сейчас форма у всех одинаковая». Он не понимал, что делать и куда прятаться.
— Слава богу, меня увезли. Молодые ребята, я даже имен их не знаю. Сказали: «Эвакуация, дедушка, надо ехать». Привезли в Мариуполь на площадь, оставили там. Найдите где-то убежище, говорят. А как его искать? Но подошли люди, совсем чужие, позвали к себе в подвал. Спасибо им. Так я с тех пор в подвале и живу. 82 года мне — и ни помыться, ни побриться... Очень хочется домой, а как туда попасть? И есть ли у меня вообще дом? Вчера разговаривал с ребятами,— он машет в сторону «распологи»,— нормальные ребята. Если честно, я не разбираюсь, они чьи, русские или украинские?
— Донецкие.
— Донецкие? Надо же, я ведь работал когда-то в Донецке. Ну, они нормальные хлопцы. Говорят: «Дядя Вася, мы сами домой хотим». Вот я у них спрашиваю: «Ребята, вы можете меня в Каменск отвезти? Там у меня собачка, котик. Люблю их... а их, наверное, уже и в живых нет...»
Сгорбившись, дедушка Вася опирается на лопату и начинает плакать. Я неловко обнимаю его; он совсем-совсем легкий.
— Хочется домой уехать,— всхлипывает он.— Тут слухи ходят, что разрушили мою улицу совсем. Значит, и дома у меня больше нет. Но эти ребята, военные, сказали мне: «Не переживайте раньше времени, не верьте никому, надо своими глазами смотреть». Но отвезти меня не могут...
Чтобы успокоить дедушку, я расспрашиваю его о мирной жизни.
— У меня паспорт украинский, значит, я украинец. Но я всем говорю, что у меня три национальности.
— Это как?
— А вот так. Я родился в Молдове. Потом жил на Украине, семья-то из Черновицкой области. А потом уехал в Сибирь, долго жил в Томске.
— А я как раз в Томске родился.
— Серьезно?! — ахает дед. Он выпрямляется, торжественно протягивает мне ладонь и крепко жмет руку.— Ну как приятно встретить земляка! Я Томск хорошо знаю. Город студентов, так его называли. Когда я там жил, Лигачев был первым секретарем обкома партии. Реформатор пьянки и алкоголизма...

Вид на территорию металлургического комбината «Азовсталь»
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Вид на территорию металлургического комбината «Азовсталь»
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
— А сюда как попали?
— Здесь строили мартен этот. Ну, завод. Была всесоюзная комсомольская стройка, молодежь сюда зазывали. Я приехал, выучился на шофера, возил бетон, песок, раствор. Женился, так и остался здесь. А раньше как было — каждое производство должно предлагать одного-двух человек в милицию. И я в 1972-м попал от мартена в эту группу. В милиции мне понравилось. Сначала участковым был, потом отправили в специальный полк по охране питьевых водохранилищ Донецкой области. Мы следили, чтобы взрыва какого не было, диверсий. Мне работа нравилась, хорошая. Женился, сын, дочь, все как у всех. В 1993 году службу закончил. Пенсию дали мизерную, конечно, потом добавили... ну, жить можно было. Если свой дом есть...
Он снова начинает всхлипывать, и я пытаюсь сменить тему:
— А дети ваши где?
— А у вас, в России, в Краснодарском крае. Сын тоже милиционер был, то есть полицейский. Раньше он часто приезжал, но после 2014 года редко, сами понимаете, работнику органов сложно в Украину поехать.
Я пытаюсь расспросить подробнее про детей, но он отвечает невпопад: то ли стариковская забывчивость, то ли какая-то несчастливая семейная история. Телефонов родных он наизусть не помнит — так торопился в эвакуацию, что забыл бумажку с номерами. Прощаясь, мы снова пожимаем руки. Дедушка Вася берется за лопату.
— Знаете, в советское время нас мусорами обзывали, мне так обидно было. А теперь вот к чему пришел на старости лет: действительно в мусоре копаюсь.

Свалка мусора
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Свалка мусора
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Вот какое дело — еда»
В соседнем дворе* у подъезда целое собрание. Несколько женщин готовят еду на мангале, переделанном в печку. Горят палки-ветки, скворчит сковородка с очень тонким слоем морковной поджарки. Женщины просят не снимать их — «А то нас до конца разбомбят», но охотно рассказывают, как они живут здесь с февраля:
— У нас в доме были переселенцы с Донбасса, с 14 года, которым новая власть не понравилась. Так вот, как началось, они сразу сорвались, все бросили и уехали. Они-то знали, что это такое. А мы не знали — вот теперь в подвале живем.
— Сколько вас тут?
— 35 человек у нас и 50 в соседнем доме. На головах друг у друга сидим. У нас бабушка есть, ей 98 лет, представляете? Она уже глубоко лежачая... Но ухаживаем за ней, конечно.
Женщины рассказывают, как они жили в первые недели войны:
— Тут такие бои были! То снаряд залетит, то самолет полетит завод бомбить и гаражи наши зацепит, то военные через двор пройдут.

Жители во дворе жилого дома в Правобережном районе города. Подростки играют в карты
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Жители во дворе жилого дома в Правобережном районе города. Подростки играют в карты
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
— Да чего самолет, у нас и танк по дому три раза стрелял в упор.
— У нас столько квартир сгорело. Как обстрел кончится, мы с лопатой и песком бегаем и тушим... Вон Женя*, мать двоих детей, со мной... И тут что особенно опасно — крыша горит, искры сыплются, а стекла давно побиты. А в каждой комнате — то шторки, то гардинки, то клеенки на столе у окна. Так от искр квартиры и загорались. Посмотрите: кругом руины, руины...

Пострадавшие от обстрелов многоэтажные жилые дома в Правобережном районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Пострадавшие от обстрелов многоэтажные жилые дома в Правобережном районе Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
— Соседи, когда уезжали, оставили нам ключ — попугайчика кормить. Туда к ним искра залетела, все воспламенилось за секунду. И выгорело с концами.
Во двор заходит мужчина средних лет — а рядом весело семенит та самая худая такса с завода. Мне становится стыдно, что я думал о ней плохо.
— А как собаку зовут?
— Филимон,— степенно отвечает мужчина.
Филимон! С таким именем такса сразу начинает выглядеть солиднее и даже как будто крупнее.

Такса в Мариуполе
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Такса в Мариуполе
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Постепенно женщины возвращаются к печке, со мной остается Екатерина*. Она осторожно спрашивает:
— А вас же власти прочитают? Вы им можете сказать очень важное? Вы только не называйте, кто мы и что мы жалуемся, боже упаси. Нам проблем хватает. Но вот какое дело — еда. Я знаю, что еду сейчас выдают. В районе Metro, еще где-то. Приходишь с паспортом, дают паек — и крупы, и сахар, и паштетики даже. Но у кого-то просто нет паспорта — сгорел, потерялся. А кто-то не может по состоянию здоровья дойти. Вот я пенсионерка, инвалид второй группы. Десять километров пешком — для меня это далеко, понимаете? Поэтому нужно, чтобы пайки централизованно по дворам развозили. Не надо много — просто крупы, консервы, хлебушка... сигарет, а то курящих много. Мы сами поделим уже. Хоть что-то, хоть по чуть-чуть, но всем достанется. Ведь сейчас не у всех еда есть.
— А что вы тут едите?
Это оказался неправильный вопрос. Голос у Екатерины сразу начинает дрожать.
— Вот что было дома куплено на 24 февраля, то и ем. Я с тех пор в магазинах не была, потому что магазинов больше нет. Какие были крупы, макароны, то и ела. Сейчас знаете, как моя кастрюля выглядит? Там овсянка. Немного овсяночки, воды литра три... И все. У соседей иногда попрошу пару картошек, макарошек жменю, бурды наварю... Ох, лучше не спрашивайте, для меня это очень болезненная тема. Такая унизительная...

Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
— Но что же в этом унизительного?
— Вы меня не поймете. Извините, но вы не поймете. Смотрите, там соседи оладики жарят. Вот там, видите, на углу дома, ближе к могилам. Конечно, они знают, что я голодная. Конечно, они мне всегда предлагают два-три оладика. Но что такое эти оладики, они же крохотные. И ведь им самим тоже надо, у них самих еды мало. Поэтому я смотрю на оладики и всегда отказываюсь, говорю: «Спасибо, я сыта». Хотя, конечно, я не сыта, и они это тоже знают. И всем неудобно и больно получается. Так что напишите: мы не ропщем, мы не жалуемся. Самое главное — чтобы сейчас была самая простая помощь. Что-то из еды. Привезли бы во двор паек — мы бы еще недельку продержались. И еще недельку продержались. А дальше все наладится. Я так думаю, что обязательно наладится.
Я записываю ее слова в блокнот и максимально деловым тоном спрашиваю, что еще нужно передать власти, хоть и не знаю какой. Это помогает — Екатерина говорит уже спокойнее:
— Еще нужна связь. С ней та же ситуация. Вроде бы дают карточки «Феникса» (мобильный оператор, который работает на территории ДНР.— “Ъ”), но опять же за ними надо далеко идти и долго стоять в очереди. А связь очень важна. Вот у меня дочь и внучка десяти лет — они живут на другом конце города. Вроде не так далеко, но это в обычной жизни. А 24 февраля связь исчезла, транспорт не ходит, постоянно стреляют… и я все это время ничего не знала про дочь и внучку. Я каждый день, каждый час о них думала. Вы просто поставьте себя на мое место.

Очередь жителей Мариуполя за водой
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Очередь жителей Мариуполя за водой
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Я с ужасом понимаю, что в Москве без карты в телефоне просто не смог бы дойти пешком от «Полежаевской» до, скажем, «Бауманской». Что уж говорить про обстрелы и снайперов.
— …Вот только на этой неделе пришли волонтеры со списками. Оказалось, дочь и внучка живы! Оказалось, они через села пешком бежали, без вещей, без ничего. В итоге добрались до Ростова, сейчас там, ищут меня. Мне дали их новый телефон, но я даже позвонить им не могу, потому что карточки нет.
— Давайте я им позвоню, как вернусь в Донецк?
— А вы можете? — ахает женщина.— Спасибо вам большое! Пойдемте, я только найду бумажку с их номером.
«Наш Мариуполь — это показательное выступление»
Я жду Екатерину у входа в подвал и спрашиваю людей, как себя вели военные. После этого от меня требуют не только выключить диктофон, но и блокнот убрать. А дальше начинают спорить между собой.
— Вот эти ВСУ, они ведь стояли у нас во дворе прямо,— начинает Евгения*.— Муж выходит утром, а они на капоте машины кофе пьют. Потом за этими же машинами и перестреливались с русскими.
— Так ведь время военное,— парирует бодрый дедок в фуфайке и вязаной шапке.— Воевать где-то надо. Вот и воевали, где им нужно.
— Ага, а еще они хотели у нас в подвале сидеть. Вместе с гражданскими!
— Жить ведь все хотят,— пожимает плечами дед.— Если бы в тебя стрелять начали, ты бы тоже в подвал побежала. И плевать, кто там.
— А помнишь, ВСУ вон в том доме на четвертом этаже засели? Поэтому в него из танка стреляли.
— А ты помнишь, как русские потом в нашем доме засели? — ехидничает дед.— Еще и квартиры перебирали, не каждая им подходила. А в ту, что надо было, дверь сами выбили.
— Ну, это потому что хозяева уехали,— заступается другая женщина.— Русские тогда просили ключи от квартир. А выбили только ту дверь, от которой ключей не было.
— А машину во дворе кто забрал? Зашли, спросили, чья машина. И давай, мол, ключи на нужды армии.
— А я и не знаю, кто забрал. Военные — а чьи, я даже не смотрела.
— В общем, ребята-девчата, стреляют и те и другие, а мы между ними,— заключает дед.
— Я вот чего не понимаю,— закипает Евгения.— Ну если ты, главнокомандующий, знаешь, что не удержишь Мариуполь, зачем тогда воевать? Отведи войска. Зачем столько людей погибло? Зачем город разрушать?
— Так не в одном Мариуполе дело,— спокойно объясняет дед.— Русские здесь застряли — украинским в других местах легче было.
Он оборачивается ко мне:
— Ты хоть скажи, что там происходит сейчас? Как Киев? Херсон? Харьков? Одесса?
— И переговоры как? — добавляет важное женщина.
Я рассказываю про уход российских войск из Киевской области и про то, что Россия называет это жестом доброй воли, а Украина — отступлением врага. Рассказываю, что под Харьковом сильно стреляют, а Одессу вроде бы еще не штурмовали. Что переговоры продолжаются, но о чем они — неизвестно. Что затонул крейсер «Москва», и никто точно не знает, что с ним случилось. Дед слушает и размеренно кивает.
— Короче, это все ради нас затевалось,— делает вывод он.— Наш Мариуполь — это показательное выступление. И что у вас в России про это говорят?
— Что это спецоперация по освобождению русских людей от нацистов.
Дед хмыкает, снимает шапку и приглаживает седые волосы, которые сильно отросли за два месяца подвальной жизни.
— То есть нас подстричь решили, но заодно разули-раздели и без дома оставили.
— Хорошо, что не без головы,— добавляет женщина.
«Получается, мы с вами родня»
Екатерина пока не вернулась с номером телефона, я прошу Евгению отвести меня к могилам. Рядом мужчина собирает мусор с газона. Черный холмик, крест из кусков плинтуса, к нему прибита рамка с запиской: имя-фамилия, годы жизни, «Помним, любим, скорбим». Аккуратным женским почерком. Маминым.
— Всего 24 года... Как он погиб?
— У меня муж у подъезда стоял, все видел. Парень отошел от дома во двор — вот к этой детской площадке. Раздался такой звук — пух! — и он упал. Думали, споткнулся, а потом видим, там из головы лужа крови. Сколько дождей было, а до сих пор видно красное пятно... В общем, снайпер его снял. А чей, мы не в курсе. Дня три-четыре он так и лежал на детской площадке. Мы даже подойти боялись. Такие обстрелы шли — мы из подвала не выходили.
Мужчина нагибается и достает из травы какую-то военную железку. Протягивает мне:
— Вот вам, прессе, подарок.
— Не-не, мне такое не надо.
— Не надо? А мы такие подарки тоже не просили!
Он уносит ее подальше, к прошитым, как решето, гаражам.
— Там дальше еще один сосед наш лежит,— показывает Евгения.— Его осколками убило. Был первый взрыв, а он говорит, мол, пойду водички наберу. Вышел из подвала — и тут снова хлопнуло. Один осколок в шею, один еще куда-то.
Где-то совсем рядом раздается сильный взрыв. Я рефлекторно вздрагиваю, а женщина не обращает на звук никакого внимания.
— Кстати, вам может быть интересно. Когда россияне поехали через наш двор, они вроде на газон заехали, а потом увидели крест — и поехали мимо, чтобы не зацепить.
Действительно, колея на траве огибает могилы.
— Евгения, вы знаете, я заметил, как вы спорили с соседом... И хочу спросить вас отдельно — а вы за кого?
Женщина смотрит на могилы, а не на меня.

Ситуация в Мариуполе. Могилы на одной из улиц города
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ситуация в Мариуполе. Могилы на одной из улиц города
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
— Мы с мужем здесь жили, мы рожали детей, чтобы семья была. Мы стремились детям дать образование, обуть, одеть, накормить. Мы жили в Мариуполе. Украинский, российский... мы жили в нашем городе. Вы спросили, за кого я — вот я вам ответила. Мы ни за кого, мы каждый сам за себя. Каждый за своих детей.
— Но все-таки вы же гражданка Украины — по идее вы должны быть за свою армию...
— Тут ведь какое отношение. Муж у меня обычно запирал дверь подвала изнутри, когда начинались бои. А человек из ВСУ подбегает и дверь дергает — ты не закрывай, говорит. Мол, если что-то там не так пойдет, то они по ступенькам к нам забежали бы. К нашим детям. Прикрывались бы, получается. А когда россияне пришли, их старший в подвал зашел — здравствуйте, тра-та-та, как вы, все ли нормально. Прошел, посмотрел, сколько людей, есть ли дети. У них была возможность, они хлебушка принесли, какие-то консервы, масличко.
Раздается еще один взрыв.
— Принесли малым там кое-чего... «Дети,— говорят,— это вам, берите».
— Что вы думаете делать дальше?
— Жить. Муж потихоньку крышу заделает. Хотя дом наш весь в дырах. Ну, значит, будем помогать соседям. И думать, что делать дальше.
Мы возвращаемся к подвалу. Екатерина приносит бумажку с номером дочери, другая женщина просит позвонить сестре — и добавляет: «Она у меня в Липецкой области живет».
— Ничего себе! Так у меня родители из Липецкой области. А где она?
— В Ельце.
— Совсем рядом.
— Ну надо же,— радуется женщина из мариупольского подвала.— Получается, мы с вами родня.
«Еще мог бы и пожить!»

Последствия обстрела в Кальмиусском районе. Местные жители хоронят родственников во дворе жилого дома
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Последствия обстрела в Кальмиусском районе. Местные жители хоронят родственников во дворе жилого дома
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В соседнем дворе двое мужчин средних лет роют могилу, раздраженно матерясь из-за попадающихся камней. Они обсуждают те же проблемы — гуманитарка есть, но далеко, нужен хотя бы велосипед. А его нет.
— Мужики, поделитесь куревом, а? С февраля сигарет нету.
Отсыпаем папирос; я спрашиваю, для кого могила.
— Дедушка мой, Николай Владимирович,— затягиваясь, отвечает мужчина в рваном пиджаке.— С сердцем у него всегда плохо было. Когда еще укропы стояли, я хотел его в город на машине оттарабанить. Укропы вроде пообещали пустить, а потом они же стрелять начали, машину зацепили, ну и все. Потом россияне вошли. Я просил его в больницу вывезти, пацаны вроде пообещали, а потом ушли завод бить. Потом меня ночью в подвале не было, а тут он и умер.

Местные жители на одной из улиц Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Местные жители на одной из улиц Мариуполя
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
— А вы не знаете, их из дворов перезахоранивать вообще собираются? — спрашивает его старший товарищ.— Вот мы в ДК «Искры» ходили за водой, а там вдоль дороги — крестики, крестики... Что сейчас будет по весне? Хоронили ведь людей неглубоко, без гробов. Они вонять начнут. Санитарные нормы-то какие?
— Да чего ты их спрашиваешь, они ж не законники.
Матерясь, они добивают неглубокую яму. Подходит молодой крепкий мужчина в спецовке. Вместе они приносят тело, используя ржавую стремянку как носилки. Николай Владимирович завернут в теплый желто-коричневый плед. Из пледа торчат ноги, на одной — ботинок, на другой — только черный носок. На дне могилы расстилают полиэтилен, потом кладут туда сверток с телом.
— Голова на север должна быть, а это не север.
— Да он ненадолго. Его все равно перезахоронят же.
— Крест-то все равно надо поставить.
— Я найду, поставлю.
Все молча смотрят на сверток с мертвым человеком.
— Слышь... ну он хоть не мучился? — спрашивает внук.
— Ну как сказать, не мучился...— задумчиво отвечает молодой.— Ночью пошел на горшок, за сердце схватился, упал, простонал и умер. И все.
Внук кивает. Тело оборачивают полиэтиленом, поверх кладут доску.
— Царствие Небесное,— говорит старшой. И продолжает отборной матерной божбой. Брань заглушает очередной громкий взрыв — совсем как гром с небес.
Могилу закапывают вместе. А потом мы все ждем какого-то последнего слова.
— 73 года. Еще мог бы и пожить! — зло говорит внук.— Полежи тут, дед. Дождись***, лучших времен.
***
Идем обратно к машине. По дороге нас окликает женщина: «Уважаемая пресса, подойдите, пожалуйста». Подхожу. Она указывает в полуподвал, который еще пару месяцев назад был магазинчиком:
— Скажите, пожалуйста, кому-нибудь: на Никопольской, 138 лежит труп. Это не наш, мы его не знаем. Пусть его хоть кто-нибудь заберет и похоронит.
В темноте действительно виден мертвый человек. Боевые действия в этой части города сейчас не ведутся, но тела убитых попадаются на улице — по ним видно, что лежат не один день. Мы медленно едем по Никопольскому проспекту. Человек лежит прямо под светофором на перекрестке, раскинув руки. Другой на тротуаре, в мешанине проводов. Еще один будто отдыхает под деревом на газоне. Ну руках лежащего на обочине успеваю заметить садовые х/б перчатки. На другой стороне дороги — красная куртка и яркие белые ботинки; лица не видно, но по одежде кажется, что это женщина. Рядом мужчина в синей куртке, лицом вниз. У сгоревшей автобусной остановки — другой, с модным красным рюкзаком: из него на асфальт выкатилась баночка, по виду с джемом. Банка побольше, кажется, с домашними соленьями, аккуратно стоит рядом.
Еще трое занимают целую полосу, машине приходится их объезжать. Я не смотрю в окно и не оборачиваюсь, боюсь, что фотограф попросит водителя остановиться. Машина проезжает метров сто и действительно останавливается. Мужчина в черной куртке лежит на боку, вместо лица видны кости черепа. Девушка-подросток в красной куртке — лицом вниз на скрещенных руках, будто спокойно спит. На девушку смотрит черное лицо женщины постарше. У нее неестественно вывернута кисть руки: похоже, она пробовала ползти.
Я пытаюсь прочитать про себя «Отче наш», но два раза сбиваюсь и начинаю сначала. Потом мы с фотографом возвращаемся к машине. Мы идем в тишине по убитой весне.
На самой окраине города я замечаю чудом уцелевший автомагазинчик. Те, кто въезжал в город с этой стороны, видели на нем надписи краской из баллончика: «Слава Украине! Руский, сдавайся. Добро пожаловать в ад, руский ублюдок». Через пару километров я вижу сваленный на обочину бетонный блок. На нем черной краской выведены другие слова: «Ахмат сила» и «ЧЕЧНЯ!»
*Имена и некоторые географические ориентиры изменены.