Ранее судимый шеф КГБ
При содействии издательства ВАГРИУС "ВЛАСТЬ" представляет серию исторических м
 |
| Даже на официальных церемониях Виктор Чебриков увлеченно играл роль тайного агента, на всякий случай прячась от фотографов за спинами товарищей |
Обычно искать подходы к бывшему высокопоставленному руководителю приходится долго и трудно. А тут все шло как по маслу. Малознакомый экс-зампред КГБ "сдал" домашний телефон своего недавнего шефа, Чебрикова, легко и не без удовольствия. Сам Виктор Михайлович тоже упирался всего несколько минут: "Дать интервью я обещать не могу. Я вас не знаю. Нужно сначала поговорить, познакомиться". Извинился, что не может принять меня дома, и предложил встретиться в редакции. Договорились. Еще пару минут мы согласовывали время: ему нужно было сидеть с заболевшей женой, забрать из школы внучку. Встречу назначили на воскресенье.
Его привезли точно в назначенное время на видавшей виды служебной черной "Волге". (Потом редакционный охранник сказал, что машина подъехала намного раньше и стояла в отдалении. Чекист, он и на пенсии чекист: осматривался, изучал обстановку.) По пути к кабинету он оглядывал наше хозяйство с выражением суровой значительности на лице. Войдя, снял кепку, тяжелое драповое пальто, по-хозяйски расположился в кресле, достал из потертого дипломата исписанные шариковой ручкой листки, протянул их мне с улыбкой: "Я готовился к нашей встрече. И хотел бы, чтобы вначале вы прочли то, что я написал для вас". На тщательно пронумерованных страничках, по сей день хранящихся у меня, он изложил весь свой жизненный путь:
"с 14 лет член ВЛКСМ
с 16 лет председатель ученического комитета школы (избирается общим собранием старших классов школы)
21 год — командир стрелкового батальона
21 год — член КПСС, в 20 лет кандидат в члены КПСС
в 30 лет первый секретарь райкома партии
в 37 лет первый секретарь горкома партии
в 40 лет второй секретарь обкома партии
в 45 лет заместитель председателя КГБ СССР
в 59 лет председатель КГБ СССР
в 65 лет секретарь ЦК КПСС".
"Ну как?" — "Да, собственно,— говорю,— я тоже готовился к нашей встрече. И все это уже читал". Чебриков удивился: "Таких подробностей в энциклопедиях нет".— "Так ведь я видел вашу анкету в архиве ЦК". И тут я понял, почему в КГБ его за глаза называли Ошпаренным. Его очень бледное лицо в мгновение ока стало багрово-красным. "Значит, и про судимость вы все знаете... Только вы учтите, что вину я искупил!" Мне показалось, что его глаза стали влажными. "И вины-то, по правде, никакой не было..."
Вот те на! Анкета, что я видел, была на выезд — в составе делегации, кажется, в Чехословакию. И никаких сведений о судимости в ней, конечно же, не было.
Бить главного — изо всей мочи и неожиданно
 |
| Сослуживцы считали его суровым и жестоким. А он был очень обидчивым, ценил литературу и литераторов, с которыми любил встречаться на конспиративных квартирах |
Так случилось, что незадолго до этой встречи я прогуливался недалеко от его дома по арбатским переулкам с отставным полковником КГБ, который, помимо прочего, рассказывал мне и о Чебрикове. "Суровый был руководитель. Жесткий до жестокости. Тогда случилось несколько провалов подряд. И меня несколько раз вызывал Ошпаренный. Посмотрит в глаза и спросит: 'Ну, докладывайте, как вы предали партию и родину!' У меня, когда я заходил в его кабинет, руки сами собой складывались за спиной. Думал, что прямо отсюда без пересадки отправят в 'Лефортово'. Куратора нашего подразделения после одной из этих бесед с тяжелым инфарктом увезли в госпиталь".
А мне поначалу Виктор Михайлович показался совсем другим. Не столько твердым, сколько упорным. И очень обидчивым. Прежде всего он попросил меня, чтобы то, что я напишу, состояло из трех равных частей: детство и война, партийная работа, служба в КГБ. Я попытался объяснить ему, что он интересует читателей только и исключительно в качестве руководителя КГБ. И что ни один редактор, находящийся в здравом уме, не станет печатать воспоминания секретаря райкома и обкома. Он согласился со мной, но страшно обиделся. А во время нескольких следующих встреч настойчиво рассказывал именно о своей молодости.
 |
Огненно-рыжего подростка Витю Чебрикова, как водится, много и часто дразнили соседские мальчишки. Дело обычно заканчивалось потасовками, из которых он редко выходил победителем. И тогда отец дал ему главный в жизни совет: нужно бить сразу самого сильного противника. Изо всей мочи и неожиданно. На следующий день, когда Витя возвращался из школы, ватага уличных пацанов завела свое обычное: "Рыжий, рыжий!" Он подошел к самому старшему, схватил его за волосы, дернул вниз и шарахнул коленом в нос. "Много было крови,— говорил Чебриков.— Но больше меня никто не дразнил".
 |
После войны окончил Днепропетровский металлургический институт — кузницу руководящих партийных кадров, где задолго до Чебрикова учились Брежнев и многие члены его команды. Но, как утверждал он сам, никакого отношения к "брежневской мафии" (произнося это, он морщился) он не имел. А на партийную работу попал потому, что его выдвинули старшие товарищи.
Карьера Чебрикова и здесь развивалась более чем удачно. Когда Хрущев создал в каждой области по два обкома — промышленный и сельский, открылось много руководящих вакансий. Правда, при обратном воссоединении обкомов он чуть было не оказался за бортом. Секретарей оказалось больше, чем вакансий. И товарищи решили найти в его работе недостатки. Вспомнив, чему в детстве учил отец, подошел к первому секретарю обкома, когда тот этого не ожидал, и твердо сказал, что не позволит шельмовать себя. И что недостатков в работе у него гораздо меньше, чем у других руководителей в области.
"Куда назначите, там и буду работать"
 |
| Тот редкий случай, когда председатель КГБ появился на людях в военном мундире: Черненко вручил ему награду. Люди из ЦК побаивались Чебрикова, считая, что он их подслушивает |
Помню, Брежнев был уставший и какой-то напряженный. Потом я узнал, что товарищ, приглашенный к Капитонову до меня, наотрез отказался работать в КГБ. Поэтому Брежнев решил говорить со мной сам. Тогда председателем комитета назначили Андропова. В помощь ему было решено направить в КГБ подходящих по возрасту, здоровью, образованию руководящих партийных работников, крепких руководителей промышленности, военных. Вначале отбирали среди первых и вторых секретарей обкомов по всей стране. В первую группу отобранных попал и я.
Брежнев предложил мне новую работу не сразу. Посмотрел объективку — там вся моя жизнь как на ладони. Расспросил: как и где воевал. Поговорили о делах в области. Что изменилось с тех пор, как он уехал. Затем он начал расспрашивать меня о людях, причем о старых работниках, которые работали еще с ним,— как я их оцениваю. Я охарактеризовал одного, другого, третьего. Он почти со всем согласился, что-то немного подправил. Причем правильные дополнения сделал. В людях Брежнев здорово разбирался. Потом вдруг говорит: 'Мы хотим вас направить на работу в Комитет госбезопасности. Как вы на это смотрите?'
А как я мог ответить? Говорю ему: 'Что же мы будем за партия, если коммунисты будут отказываться от поручений первого секретаря ЦК? Куда назначите, там и буду работать'. Вижу, он аж вздохнул облегченно. Снял трубку и говорит: 'Юрий, я тут тебе нашел начальника управления кадров. Когда ему к тебе подойти?' Потом повернулся ко мне: 'Завтра в десять часов подойди в первый подъезд КГБ к Андропову. А сейчас пойди и выпей как следует'. Я что-то начал ему говорить про позднее время. Он даже удивился: 'Ты в "Москве" остановился? Так я там раньше в любое время суток бутылку найти мог. Что за молодежь пошла...'".
 |
А вот еще об одном курировавшемся им подразделении, идеологической контрразведке, он говорил совершенно неохотно. И, судя по имеющемуся в нашем распоряжении документу, похоже, сильно преуменьшал свою роль в борьбе с идейными врагами (см. документ). Хотя как-то вдруг обронил, что любил ездить на встречи с агентами вместе с начальником Пятого управления генералом Бобковым. Считал, что они имели право давать советы писателям. "Мы же были в курсе их творчества. Мы с Юрием Владимировичем были очень начитанными людьми. Практически все выходившее читали",— говорит. Я удивился: "А когда же вы успевали?" — "А в машине. Наденешь наушники, включишь магнитофон и слушаешь. Мы для экономии времени приняли двух женщин-дикторов. Дали им звание майора. Вот они нам все и начитывали".
Потом он утверждал, что многочисленность агентуры среди интеллигенции сильно преувеличена. "Те, кто действительно нам помогал,— говорил он,— приносили реальную пользу. С их помощью удавалось вовремя гасить конфликты в коллективах, которые были гордостью страны. В Большом театре, например. В творческих союзах. Иллюзия многочисленности возникла по другой причине. Так получилось, что в какой-то период в ЦК перестали принимать видных представителей интеллигенции с серьезными общегосударственными проблемами. И как ни странно, они пошли к нам. Мне приходилось тратить много времени и вникать в дела, напрямую к госбезопасности не относящиеся. Даже проблемой строительства ускорителей элементарных частиц занимался. Я беседовал с Терентием Семеновичем Мальцевым, Чаковским, учеными, писателями, поэтами, художниками. Некоторые из тех, кому тогда удалось помочь, теперь рассказывают о том, как мы их притесняли".
"И психушки для инакомыслящих — тоже преувеличение?" — "Этот вопрос подается очень односторонне. В свое время был исследован состав диссидентских групп. Оказалось, что к настоящим идейным противникам во множестве примыкают психически неустойчивые и больные люди, способные на самые неразумные поступки — террористические акты, публичные самоубийства и т. д. По предложению психиатров их и направляли на принудительное лечение. Но, как это зачастую бывает, некоторые нерадивые сотрудники вместо проведения профилактической работы, разъяснений, бесед стали сваливать свою работу на врачей".
Наверное, после этой беседы он решил, как же, в конце концов, следует относиться ко мне. Я стал для него инакомыслящим, с которым и нужно проводить эти самые беседы. Он вдруг принялся рассказывать мне, как много пользы приносил обществу КГБ: "После известных событий в Польше в начале восьмидесятых годов встал вопрос о вводе туда наших войск. Представителей, как теперь принято выражаться, силовых ведомств вызвали к Брежневу. Первыми к нему в кабинет вошли военные. Они были за ввод войск, судя по их настроению на выходе, им удалось склонить генсека на свою сторону. Меня он принял последним. Я изложил ему мнение комитета о возможных и катастрофических для нашей страны последствиях такого решения. Бойкот экономический, политический и культурный. Польша не Афганистан. Реакция Запада будет намного жестче. Брежнев кивал. Но окончательно он согласился с нашим мнением после того, как я сказал, что на Западе его перестанут считать выдающимся борцом за мир".
"С портретом по пояс, как положено"
 |
Переменилась и тональность наших бесед. Он неожиданно спрашивал меня: "А вы со своими товарищами обсуждаете творчество Солженицына?" Я удивился: почему возник такой вопрос? И он начал с нажимом, то и дело повторяя: "Вы должны говорить коллегам, что...", рассказывать неизвестные широкой публике подробности жизни и творчества писателя. Это было явное активное мероприятие. Старик или сам, или по совету коллег начал отрабатывать звание советника — "работать с прессой". Я сказал, что, если решу использовать эту информацию, то обязательно сошлюсь в качестве источника на него. Чебриков побагровел и почти замкнулся.
Через некоторое время он позвонил мне и спросил, нет ли у меня книг Горбачева и Анатолия Собчака. Когда я их привез, он пролистал горбачевские мемуары, нашел нужное место, прочел и сказал: "И человек слабый, и политик. Вот до сих пор продолжает утверждать, что ничего не знал о применении войск в Тбилиси в 1989 году... Да я сам звонил ему, докладывал обстановку и запрашивал санкцию на применение войск. Кто, кроме верховного главнокомандующего, мог отдать такой приказ?" — "Но ведь вы сами помогли ему стать генсеком". Он вздохнул: "У Горбачева был дар убеждения. И способности к политической игре, правда, на тактическом уровне... Горбачев меня и Дмитрия Федоровича Устинова исподволь убеждал в том, что он лучшая кандидатура на пост генсека. Но шапка Мономаха оказалась для него тяжеловатой... Настоящей, серьезной опоры ни в партии, ни в стране у него не было. Поэтому он безостановочно суетился. Все время боялся, что в КГБ от него что-то скрывают. Сначала Лукьянов, потом Болдин по его поручению звонили нашим товарищам и что-то выведывали. И в людях в отличие от Брежнева последний генсек разбирался слабо. Считал льстецов верными соратниками. Мой зам Крючков, например, постоянно направлял Горбачеву обзоры откликов зарубежной печати на его выступления, переводы хвалебных статей о нем. Я отказался подписывать сопроводительные письма к этим 'материалам'. Говорю ему: 'Владимир Александрович, ты же прекрасно знаешь, что половина этих статей напечатана только потому, что мы за это заплатили. Какое же это мнение мировой общественности? Кого ты обманываешь? Генерального, меня и себя?'".
Текст интервью я привез ему на визирование. Он прочитал текст раз, другой, третий. "Вроде бы все, как я говорил. Но нет нужного идеологического стержня. Все-таки вы не показали правильно роль партии в жизни страны. И о моей работе в партийных органах ничего не написали. А где вы намечаете это опубликовать?" Я предложил на выбор несколько самых тиражных изданий. Одно из них он отмел сразу: "Главный редактор там мерзкий педераст". И предложил обратиться в "Правду". "В какую из пяти?" — "В ту, которая выглядит так, как раньше,— говорит.— И чтобы опубликовали обязательно на первой полосе, с портретом по пояс, как положено". Найти компромисс нам не удалось.
"Ну что ж,— сказал Чебриков,— значит, время публикации этого интервью еще не пришло. Может, после моей смерти?" Виктор Михайлович хитро улыбнулся. Видимо, собирался прожить еще много лет. Но, по моим наблюдениям, долго живут лишь те ветераны власти, кто не реагирует так болезненно, как Чебриков, на каждую мелочь. Та же история с судимостью, например. Во время войны у его солдата, стоявшего в карауле, самопроизвольно выстрелил автомат. Был ранен другой солдат, а под суд пошел командир. Судимость сняли уже после следующего же боя, но переживал Чебриков все это и десятилетия спустя. Если принимать все так близко к сердцу, оно может не выдержать. Так и случилось: 1 июля 1999 года его не стало.
-------------
*Очерк о А. Шелепине см. в #40, 1999 г.; о Л. Берии — в #22, 2000 г.; о Ф. Бобкове — в #48, 2000 г.; о И. Серове — в #49, 2000 г.; о Ю. Андропове — в #5, 2001 г.
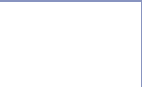 |
|

