 |
— Что происходит после того, как сотрудник спецслужбы обращается с просьбой о политическом убежище?
— Прежде всего, никому не пожелаю пройти через все это. Даже сейчас, по прошествии 20 лет, став на ноги, все равно не пожелаю. Это как самоубийство. Не легче. Это раз. А что происходит? Человек попадает в некое убежище, его прячут.
— Обязательно?
— Я попал в Англию летом 1978 года. Передо мной "ушел" Георгий Марков, которого потом в Лондоне убили (болгарина Маркова укололи зонтом, на наконечнике которого был смертельный яд.— Ъ). Может быть, поэтому меры безопасности в моем случае были более серьезными. Дело даже не в том, что охраняли меня. Защищали репутацию британских спецслужб, которая пострадала в результате того убийства. Впрочем, и я всего не знаю. Не знаю, как защищают...
— Вы сказали, что помещают в убежище. Это что такое?
— Это может быть военная база, которая находится под усиленной охраной. Что-то наподобие закрытого военного городка.
— А условия жизни приличные?
— Условия нормальные, выше средних. Могут несколько раз сменить квартиру, военные городки. Знаете, даже потом, когда человек может уже купить свой дом, все равно для него сохраняется такое убежище, гнездо, где он может спрятаться с семьей.
— От кого спрятаться?
— Ну просто пересидеть. Ему оставляют эту возможность. Если вдруг незнакомые люди начинают бродить вокруг дома, например. Местные спецслужбы сами предупреждают, если за вами кто-то прибыл. Вы же, собственно, этого не знаете... А они отслеживают.
— Как эти спецслужбы относятся к тому, кто попросил убежища?
— Прежде всего с очень большим подозрением — не подослали ли. Я это предвидел.
— То есть припасли несколько секретов?
— Вы знаете, я считал, что наша страна преступна и по отношению к своему народу, и по отношению к миру. И поэтому я счел, что часть сведений имею полное право разгласить. У меня были козырные тузы. Они поняли: это не может быть провокацией, слишком дорого обошлась бы Советам такая провокация.
— Ну подозрительность — это понятно. Но как все-таки к вам относились: уважительно, презрительно, с состраданием, равнодушно?
— Вы знаете, здесь, в Англии, люди вполне человечные. Первое время проходит в разговорах, если есть о чем говорить, ведут себя дружески — ты же можешь рассказать что-то интересное. В Америке, я знаю, по-другому. Там — бездушная машина.
— Ну вы, насколько я понимаю, могли рассказать что-то интересное, все-таки сотрудник военной разведки. А Литвиненко — сотрудник ФСБ, чем он-то может быть интересен? Непонятно.
— Понятно. Преступность. Для Запада представляет огромный интерес, если он расскажет о преступности в высших эшелонах власти России. Или, например, если я говорил о ядерном оружии, то это мало кого волновало, а сейчас есть другой аспект — в чьих руках может оказаться это оружие. Страна ослабла, контроль уменьшился, процессы стали неуправляемыми. Может ли биологическое, психотронное оружие оказаться в руках преступных группировок и кто этим может воспользоваться?
— Так сколько же времени продолжаются эти задушевные разговоры?
— Я сказал вам, что кое-что рассказал, а кое-что нет. Но то, что рассказал, представляло интерес. Они, по-моему, сами удивлялись, ведь я был в небольшом звании. Все зависит от того объема информации, которым Литвиненко захочет поделиться.
— Вы уверены, что он информированный человек?
— Да.
— Но откуда вы знаете?
— У меня свои источники информации, и я не хочу их раскрывать. И потом — интуиция...
— Могут ли его выдать российским властям?
— Ручаться, что не выдадут, нельзя. Хотя не хотелось бы. Ситуация сложная. Когда я уходил, была холодная война на грани с горячей. Это, может быть, работало на меня.
— Но сейчас у Блэра отличные отношения с российским президентом.
— Это может повлиять, но я надеюсь, что Блэр проявит государственную мудрость и здравый смысл — в конце концов, от этого человека он может получить о своем московском друге другую информацию, которая потребует размышлений. Вообще, Блэр оказался в затруднительном положении: или отдать человека на смерть, или нарушить добрые отношения.
— А вы боялись, что вас выдадут?
— Да. И только просил, чтобы мне дали знать, если примут такое решение. Лучше самоубийство, чем к бывшим коллегам. Давайте не будем предрекать. Надеюсь, ошибки не повторятся — ведь Запад отдавал людей Сталину... А кубинского мальчика, как вы помните, американцы недавно вернули на Кубу.
— Литвиненко собирается дать пресс-конференцию. Ему могут не позволить это сделать?
— Все зависит от него, как он себя поставит. Чем больше прессы, тем лучше для него. Знаете, я недавно выступал в Берлине, и какой-то человек меня спросил из зала: "А ты не боишься, что тебя замочат? Вот я, например". Я ответил, что это была бы отличная реклама для моих книг. Мои книги — это мое спасение. Им не хотелось делать из меня мученика. Для Литвиненко спасение — пресса. Чем больше будет о нем информации, тем лучше для него. Здешним ребятам лучше, чтобы он помолчал и тихо отсиделся. Таким образом, он работает и против тех, кто его приютил, и против тех, кого бросил. Непростая ситуация. Он должен проявить характер.
— Как вы думаете, кто больше рисковал — вы или он?
— Одинаково. Эти организации, и КГБ, и ФСБ, как мафия. Если человек ушел, то срок давности не действует. Это же им кость в горле, что кто-то убежал и выжил и живет. А правильно должно быть: сколько веревочке ни виться...
— У нас пишут, что Березовский помог Литвиненко бежать.
— Он попал между жерновов. Так бывает. Но там его убьют свои, а Березовский его спасает. Что делать?
— И когда же после всех этих перипетий у вашего брата начинается нормальная жизнь?
— Нормальная в вашем понимании — никогда. А вообще это зависит от него. Я считал, что если не отдадут, даже если сортиры придется чистить, то все равно нормально. А что он считает, я не знаю. Есть два типа людей. Одни считают, что вот я ушел и это самое важное в моей жизни, потом будут деньги, прочее. Такие или спиваются, или опускаются. Другие считают, что это — шанс, а вся жизнь впереди и надо что-то делать. Вот так: или работа, или водка. Нормальная жизнь... Такой, какой она была, не будет уже никогда, до самой смерти. И топор будет висеть всегда. Литвиненко — мой брат по высшей мере.
— Да сейчас, по-моему, не дают уже в такой ситуации высшей меры. Впрочем, давно никто никуда не бежал.
— Дают или нет, а пришить могут.
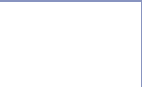 |
|


