"Отец говорил, что не должен был вляпаться в ГКЧП"
19 февраля исполнилось 65 лет со дня рождения Бориса Пуго. Его сын Вадим Пу
19 февраля исполнилось 65 лет со дня рождения Бориса Пуго. Его сын Вадим Пуго рассказал о жизни и смерти отца обозревателю "Власти" Евгению Жирнову.
В первый раз я увидел Бориса Пуго в 1989 году, когда меня вместе с несколькими другими журналистами пригласили на заседание комитета партийного контроля при ЦК КПСС, где должны были говорить о жалобах ветеранов афганской войны. Но что-то в аппарате КПК сработало не так, и нас пустили в зал заседаний КПК раньше назначенного времени. Рассматривался вопрос о нехватке в стране моющих средств. Директор какого-то предприятия нудно объяснял, почему не может увеличить производство мыла. Партийная дама в строгом темном костюме попросила директора объяснить все еще раз. Тот стал объяснять, что из выделенного ему Госснабом сырья больше мыла сделать невозможно. "А где же ваша партийная совесть?!" — вдруг завопила дама. "Борис Карлович! — она повернулась к сидевшему на председательском месте главе КПК Пуго.— Я считаю, надо подумать о серьезном наказании для товарища". Пуго, безучастно слушавший все это время, уныло кивнул. В этот момент аппаратчики обнаружили свою ошибку, и нас попросили из зала. Так что материала для заметки "Партийную совесть — на мыло" добрать не удалось. Когда нас выводили, директор с дамой спорили, уже почти срываясь на визг. Но выражение лица Пуго ничуть не изменилось.
Точно таким же его запомнила страна по телетрансляциям в августе 1991 года. А 22 августа все узнали, что Пуго и его жена покончили с собой. Несмотря на прошедшие десять лет, говорить о смерти родителей их сыну Вадиму все еще тяжело, и мы решили начать разговор с гораздо более давних времен.
— Я слышал, еще ваш дед был латышским стрелком.
— Родители отца были известными латышскими коммунистами. Бабушка родилась в 1902 году и умерла год назад, прожив почти сто лет. Дед, Карл Янович, был на шесть лет старше. В первую мировую войну он служил в латышских стрелковых частях, после революции стал красным латышским стрелком. Бабушка и дед в 1918 году участвовали в первом установлении советской власти в Латвии. Там были бои, дед попал в окружение и, чтобы спасти партбилет, обрезал его и вложил в сапог под пятку. Этот партбилет в форме пятки хранится у нас в семье до сих пор. А после разгрома советской республики их квартира была явкой Коминтерна. Полиция вышла на их след, и в 1924 году им пришлось бежать в СССР.
Как все коминтерновцы, дед работал на советскую разведку, и потому здесь его направили на работу в органы. Он окончил Высшую школу НКВД, а потом в ней преподавал. Я знаю, что его то направляли на партийную работу, то опять возвращали в госбезопасность. Какое-то время они жили в Калинине, там и родился отец.
— Ему удалось избежать репрессий?
— Дедушку я никогда не видел, а бабушка рассказывала, что дважды его собирались арестовать как латышского шпиона. Но всякий раз друзья предупреждали его, и два опытных подпольщика садились в поезд и уезжали в Москву. Бабушка пряталась у знакомых, а дед шел в ЦК. Там проводить аресты запрещалось. И он ходил к знакомым работникам и каким-то образом добивался отмены ордера на арест. В 1940 году, когда советские войска вошли в Латвию, семья вернулась в Ригу и деда избрали там секретарем горкома партии. После начала войны сначала были в эвакуации в Кирове, а затем вернулись в Москву и жили в постпредстве Латвийской ССР.
Снова в Латвию семья приехала, если я не ошибаюсь, в 1948 году. Деда избрали первым секретарем горкома, а бабушка работала в партийном архиве. Потом дед был заместителем ректора Латвийского университета, а в последние годы жизни — он умер в 1955 году — возглавлял Высшую партийную школу.
— Поэтому партийная карьера Бориса Пуго была предопределена?
— Отчасти. Он окончил политехнический институт, распределился на завод. Но где мог сын таких известных коммунистов проявлять свою энергию? На комсомольской работе. Он продвигался очень быстро. Думаю, что происхождение играло в этом второстепенную роль. Тогда было принято выдвигать советски настроенные национальные кадры. Он был секретарем райкома, первым секретарем латвийского комсомола. И в 70-м году его забрали в ЦК ВЛКСМ в Москву. Скоро он стал секретарем ЦК по международным вопросам. В 1974 году его направили на партийную работу. После ЦК ВЛКСМ, где жизнь все время кипела, он на Старой площади несколько месяцев маялся от тоски. Говорил мне потом, что ему не нравилось быть маленьким винтиком в огромном механизме. И просил отпустить его в Латвию. Или Суслов, или Арвид Янович Пельше, я не помню, дали согласие. Он работал в Риге в ЦК, потом в горкоме, а затем его перевели в КГБ.
— Он снова пошел по отцовскому пути?
— Он не выбирал. В Ригу приехал первый зампред КГБ Семен Цвигун. Побывал в горкоме на партийном активе, а вернувшись в Москву, доложил Андропову, что в руководстве латвийского КГБ нужен именно такой молодой, активный, перспективный и кристально честный коммунист.
— Это не преувеличение? Я имею в виду кристальную честность.
— Вы знаете, он был именно таким. После приезда из Москвы в Ригу мы год жили в гостинице. Ему было неудобно просить квартиру. У него никогда не было ни собственной дачи, ни машины. На книжке после его смерти осталось пять тысяч рублей. Немного для кандидата в члены Политбюро. Конечно, его так воспитали. Бабушка культивировала аскетический дух.
— Но ведь методы спецслужб даже их апологеты не решаются назвать высокоморальными. И он все-таки пошел в КГБ...
— Он совершенно не собирался туда идти. Меня не посвящали в эти дела, но мать потом рассказывала, что она была в диком шоке. Родители матери были простыми людьми, и у них КГБ вызывал ужас. Отец тоже не хотел туда уходить. Но кто его спрашивал? Решение принято — иди и выполняй.
Его направили в Высшую школу КГБ. Так что в нашей семье ее закончили все мужчины: и дед, и отец, и я. Когда его назначили зампредом, он по долгу службы знакомился с делами репрессированных. С тем, как проводились репрессии в Латвии. И очень всем этим возмущался. Но в то же самое время курировал "пятую линию" — идеологический контроль и визировал обвинительные заключения на националистов, которые следственный отдел направлял в суд. А подпись зампреда или председателя КГБ для суда означала одно: подсудимый виновен по всем статьям и должен получить максимальное наказание. И отец ставил свою подпись с убеждением в своей правоте.
— А как он вновь оказался на партийной работе?
— Его избрали первым секретарем латвийского ЦК в 1984 году. Насколько я знаю, этот переход инициировал Горбачев. В те годы отец был не просто выдвиженцем Горбачева. Он во всем ориентировался на генсека, восхищался им в личном плане. Это было почти поклонение.
— И он же перевел вашего отца из Риги в Москву?
— Конечно. Но этот переезд был скорее вынужденным. У отца был недостаток: бабушка не научила отца и его брата латышскому языку. И, используя языковую проблему, его начали выдавливать из Латвии.
— Националисты?
— Да они всегда были мелочью, которую всерьез рассматривали только на нашем, комитетском уровне. Чтобы получать награды и повышение по службе за борьбу с этим "опаснейшим явлением". За националистами всегда стояли люди из партхозактива. Чужими руками готовили отделение от СССР. А отец слишком много обо всех знал. К примеру, если бы он остался в Латвии, думаю, что творческая интеллигенция из картотеки агентуры КГБ не смогла бы с легкостью перейти в списки парламентариев.
— И как происходило выдавливание?
— Идет, к примеру, в Риге актив. И все выступают по-латышски. А он все понимал, но говорить не мог. Приближался очередной пленум латвийского ЦК, и отец понял, что его языковой вопрос может стать на нем основным. Нужно было уезжать. И Горбачев в 1988 году выдвинул его на пост председателя Комитета партийного контроля.
— С тех пор никто не видел на его лице улыбки. Кресло главного партийного инквизитора было неудобным?
— Дело не в должности. После приезда в Москву он почувствовал себя не в своей тарелке. Несколько раз говорил мне, что в Риге все было просто и ясно. А на Старой площади слишком много сложно закрученных интриг. Он ведь был человеком осторожным и несколько замкнутым. Он, например, не давал никому оценок даже в самом узком кругу. Ему было тяжело в личном плане. В середине 80-х ушли из жизни почти все его друзья. В Москве мы оказались наедине с собой.
Но больше всего его огорчала ситуация в стране. После перевода в Москву он увидел картину состояния государства в целом. То, что Союз раздирается на части и регионами, и самой Москвой. Что экономика в упадке. Отец рассказывал мне, что руководству страны поступают долгосрочные прогнозы развития событий. Например, что будет, если к власти в республиках придут такие-то группы, в каком случае следует ждать объединения Румынии с Молдавией и т. д. Он понимал, что стране необходима трансформация, но не видел возможностей для ее осуществления.
— Он только огорчался и ничего не предлагал?
— Отец был сторонником китайской модели развития. Особенно после того, как сам побывал в Китае. Там он увидел то, что считал единственно приемлемым для нашего полуазиатского дикого государства. Он рассказывал мне о трех постулатах китайского успеха: ничем не ограниченное развитие бизнеса, сохранение основной роли компартии и неделимость страны. Но из поездки в Китай отец вернулся совершенно подавленным. У нас он не видел ни людей, ни путей для исправления положения.
— Неужели в огромной советской элите он не нашел ни одного соратника?
— Может быть, потому, что он абсолютно не понимал и не принимал многих людей и из старой элиты, и из рвавшейся к власти. Выдвиженцев из Свердловска, например. Люди из этой глубинной части России очень сильно отличались от людей из Прибалтики. Отрицательно он относился и к тем, кто называл себя тогда демократами. Немало людей из его окружения по ЦК ВЛКСМ перешло в этот лагерь. И он не раз мне рассказывал, что такой-то товарищ был ортодоксом из ортодоксов и душил любые новые идеи, а теперь вдруг стал демократом. Его единомышленниками в определенной степени были председатель КГБ Крючков и секретарь ЦК Олег Шенин. Хотя и меня, и, как мне казалось, отца всегда удивляли высказывания Шенина. Такой радикальный большевик образца 1917 года.
— А Горбачев?
— Отец в какой-то момент понял, что Горбачев, как и остальные, не знает, что делать. Чтобы скрыть это, Михаил Сергеевич отгородился ото всех. Как-то отец сказал, что встречается теперь с Горбачевым крайне редко — раз в несколько месяцев. И я почувствовал, что он внутренне отрешился от Горбачева.
— Но все-таки в 1990 году он принял предложение Горбачева стать министром внутренних дел СССР...
— Тогда Горбачев совершал малопонятные кадровые маневры. Я знаю, что существовал план повысить Крючкова, а на его место в КГБ назначить отца. Потом последовало предложение возглавить МВД. Горбачев все откладывал его утверждение министром на Верховном совете. А когда представил кандидатуру отца, начался какой-то кавардак. Он возмущался: "Ты представляешь, партия выдвигает своего кандидата на должность министра. В любой стране в парламенте в таком случае фракция партии ведет работу в поддержку кандидата. А тут на комиссии Верховного совета не было ни одного коммуниста. Сидят десять демократов, и каждый смотрит на меня волком".
— И все это привело его в ряды гэкачепистов?
— Он вынужденно шел на участие в ГКЧП, но оно было не стопроцентным. Не бывает, чтобы ключевой министр накануне переворота уехал со всей семьей в отпуск. Одновременно с президентом, против которого заговор готовится. И играет в санатории "Форос" в бильярд. Он, конечно, был в курсе того, что такие настроения существуют, и их разделял. Он говорил мне, что не должен был вляпаться в это дело, но альтернативы не было. Ему оставалось либо отказаться и фактически встать на сторону ельцинской команды, которую он терпеть не мог, либо остаться, пусть и достаточно формально, с людьми, которые были его единомышленниками,— Крючковым и Шениным. Но он не оказывал им активной поддержки. Ну позвонил раз на телевидение и попросил не транслировать выступление Анатолия Собчака, ну дал машины ГАИ для сопровождения входящих в Москву войсковых колонн. Но ничего больше ему в вину не ставили.
— Неужели при его информированности он не понимал безнадежности всей этой затеи? Что ельцинская команда сознательно подталкивает силовиков к выступлению (см. "Власть" #51 от 25 декабря 2001 г.)?
— Есть информация, которую нельзя получить от агентуры. Возьмите лучшего министра обороны всех времен и народов Павла Грачева. Это был один из надежнейших и ярко высказывавшихся за сохранение СССР генералов. Апологет режима. И старики — Крючков и другие сделали на него ставку. Его специально готовили для действий в условиях чрезвычайного положения. Для непосредственного руководства операцией. В части действий в городских условиях его готовили на комитетских объектах наши сотрудники. А он перебежал, прельстившись постом министра обороны.
— Вы считаете, что длинная цепь разочарований привела вашего отца к решению покончить с собой?
— Ему позвонили и предупредили, что приедут с обыском и ордером на арест. Для него переход в категорию обвиняемого, подследственного был совершенно немыслим. Он, наверное, думал и о том, что нужно спасти от погрома МВД. Когда звено, связывающее руководство министерства с организаторами событий, обрублено, обвинить никого невозможно. И потому финальный шаг — решение уйти из жизни — был для моих родителей единственно приемлемым.
Когда группа захвата приехала, мать еще была жива и врачи пытались что-то сделать. Те, кто приехал арестовывать отца, были в шоке. Замминистра внутренних дел России Виктор Ерин говорил: "Ну зачем они это сделали?!" Сочувствовал нам глава российского КГБ Виктор Иваненко. Только Григорий Явлинский вел себя совершенно хамским образом. Мне просто противно вспоминать то, что он тогда делал. Не хочу вдаваться в подробности.
Тогда мы жили жизнью семьи врагов народа. Было безумно больно и тяжело. Хоронить родителей не давали. Несмотря на страшные препоны, я нашел гробы, машину. Я не мстительный человек, но мне очень хочется взглянуть в глаза тому главврачу ЦКБ в Кунцево, который не позволил попрощаться с родителями в зале прощаний больницы. Нас загнали в подвал морга, где вокруг были стеллажи с трупами. Нести гробы было некому. Я работал тогда в разведке — в первом главном управлении КГБ, и моих коллег из ПГУ не отпустили на похороны. Приказом в категорической форме. Я не виню тех, кто его отдал. В первые дни после августа никто не знал, что будет. Ограничатся ли арестами тех, кого взяли в первые дни, или счет посаженных пойдет на сотни и тысячи. Так что приехали лишь несколько ветеранов. После кремации нам отказывались давать место для захоронения урн с прахом. Мы просили разрешить похоронить их в могиле бабушки — маминой мамы, но нам постоянно отказывали. Урны стояли у меня дома на подоконнике полгода, пока, наконец, разрешение не дали.
И достаточно долго за мной неотступно ходило наружное наблюдение. Я понял, что в разведке мне делать больше было нечего, хотя ко мне там относились чрезвычайно тепло. В декабре 1991 года я ушел из ПГУ.
— И чем вы занимаетесь теперь?
— Работаю вице-президентом фирмы, производящей нефтяное оборудование.
— А что сейчас, когда прошло больше десяти лет, вы думаете о поступке родителей?
— Я считаю, что они с мамой сделали все правильно. Она всегда была с отцом. Я не представляю, как бы он мог жить после августа 1991 года.
 |
Точно таким же его запомнила страна по телетрансляциям в августе 1991 года. А 22 августа все узнали, что Пуго и его жена покончили с собой. Несмотря на прошедшие десять лет, говорить о смерти родителей их сыну Вадиму все еще тяжело, и мы решили начать разговор с гораздо более давних времен.
— Я слышал, еще ваш дед был латышским стрелком.
 |
| Первый комсомолец |
Как все коминтерновцы, дед работал на советскую разведку, и потому здесь его направили на работу в органы. Он окончил Высшую школу НКВД, а потом в ней преподавал. Я знаю, что его то направляли на партийную работу, то опять возвращали в госбезопасность. Какое-то время они жили в Калинине, там и родился отец.
— Ему удалось избежать репрессий?
 |
| Первый коммунист |
Снова в Латвию семья приехала, если я не ошибаюсь, в 1948 году. Деда избрали первым секретарем горкома, а бабушка работала в партийном архиве. Потом дед был заместителем ректора Латвийского университета, а в последние годы жизни — он умер в 1955 году — возглавлял Высшую партийную школу.
— Поэтому партийная карьера Бориса Пуго была предопределена?
— Отчасти. Он окончил политехнический институт, распределился на завод. Но где мог сын таких известных коммунистов проявлять свою энергию? На комсомольской работе. Он продвигался очень быстро. Думаю, что происхождение играло в этом второстепенную роль. Тогда было принято выдвигать советски настроенные национальные кадры. Он был секретарем райкома, первым секретарем латвийского комсомола. И в 70-м году его забрали в ЦК ВЛКСМ в Москву. Скоро он стал секретарем ЦК по международным вопросам. В 1974 году его направили на партийную работу. После ЦК ВЛКСМ, где жизнь все время кипела, он на Старой площади несколько месяцев маялся от тоски. Говорил мне потом, что ему не нравилось быть маленьким винтиком в огромном механизме. И просил отпустить его в Латвию. Или Суслов, или Арвид Янович Пельше, я не помню, дали согласие. Он работал в Риге в ЦК, потом в горкоме, а затем его перевели в КГБ.
— Он снова пошел по отцовскому пути?
 |
| Первый ученик |
— Это не преувеличение? Я имею в виду кристальную честность.
— Вы знаете, он был именно таким. После приезда из Москвы в Ригу мы год жили в гостинице. Ему было неудобно просить квартиру. У него никогда не было ни собственной дачи, ни машины. На книжке после его смерти осталось пять тысяч рублей. Немного для кандидата в члены Политбюро. Конечно, его так воспитали. Бабушка культивировала аскетический дух.
— Но ведь методы спецслужб даже их апологеты не решаются назвать высокоморальными. И он все-таки пошел в КГБ...
— Он совершенно не собирался туда идти. Меня не посвящали в эти дела, но мать потом рассказывала, что она была в диком шоке. Родители матери были простыми людьми, и у них КГБ вызывал ужас. Отец тоже не хотел туда уходить. Но кто его спрашивал? Решение принято — иди и выполняй.
Его направили в Высшую школу КГБ. Так что в нашей семье ее закончили все мужчины: и дед, и отец, и я. Когда его назначили зампредом, он по долгу службы знакомился с делами репрессированных. С тем, как проводились репрессии в Латвии. И очень всем этим возмущался. Но в то же самое время курировал "пятую линию" — идеологический контроль и визировал обвинительные заключения на националистов, которые следственный отдел направлял в суд. А подпись зампреда или председателя КГБ для суда означала одно: подсудимый виновен по всем статьям и должен получить максимальное наказание. И отец ставил свою подпись с убеждением в своей правоте.
— А как он вновь оказался на партийной работе?
— Его избрали первым секретарем латвийского ЦК в 1984 году. Насколько я знаю, этот переход инициировал Горбачев. В те годы отец был не просто выдвиженцем Горбачева. Он во всем ориентировался на генсека, восхищался им в личном плане. Это было почти поклонение.
— И он же перевел вашего отца из Риги в Москву?
— Конечно. Но этот переезд был скорее вынужденным. У отца был недостаток: бабушка не научила отца и его брата латышскому языку. И, используя языковую проблему, его начали выдавливать из Латвии.
— Националисты?
 |
| Отец (справа) и сын Пуго. Кристально честные сотрудники госбезопасности |
— И как происходило выдавливание?
— Идет, к примеру, в Риге актив. И все выступают по-латышски. А он все понимал, но говорить не мог. Приближался очередной пленум латвийского ЦК, и отец понял, что его языковой вопрос может стать на нем основным. Нужно было уезжать. И Горбачев в 1988 году выдвинул его на пост председателя Комитета партийного контроля.
— С тех пор никто не видел на его лице улыбки. Кресло главного партийного инквизитора было неудобным?
— Дело не в должности. После приезда в Москву он почувствовал себя не в своей тарелке. Несколько раз говорил мне, что в Риге все было просто и ясно. А на Старой площади слишком много сложно закрученных интриг. Он ведь был человеком осторожным и несколько замкнутым. Он, например, не давал никому оценок даже в самом узком кругу. Ему было тяжело в личном плане. В середине 80-х ушли из жизни почти все его друзья. В Москве мы оказались наедине с собой.
Но больше всего его огорчала ситуация в стране. После перевода в Москву он увидел картину состояния государства в целом. То, что Союз раздирается на части и регионами, и самой Москвой. Что экономика в упадке. Отец рассказывал мне, что руководству страны поступают долгосрочные прогнозы развития событий. Например, что будет, если к власти в республиках придут такие-то группы, в каком случае следует ждать объединения Румынии с Молдавией и т. д. Он понимал, что стране необходима трансформация, но не видел возможностей для ее осуществления.
— Он только огорчался и ничего не предлагал?
— Отец был сторонником китайской модели развития. Особенно после того, как сам побывал в Китае. Там он увидел то, что считал единственно приемлемым для нашего полуазиатского дикого государства. Он рассказывал мне о трех постулатах китайского успеха: ничем не ограниченное развитие бизнеса, сохранение основной роли компартии и неделимость страны. Но из поездки в Китай отец вернулся совершенно подавленным. У нас он не видел ни людей, ни путей для исправления положения.
— Неужели в огромной советской элите он не нашел ни одного соратника?
— Может быть, потому, что он абсолютно не понимал и не принимал многих людей и из старой элиты, и из рвавшейся к власти. Выдвиженцев из Свердловска, например. Люди из этой глубинной части России очень сильно отличались от людей из Прибалтики. Отрицательно он относился и к тем, кто называл себя тогда демократами. Немало людей из его окружения по ЦК ВЛКСМ перешло в этот лагерь. И он не раз мне рассказывал, что такой-то товарищ был ортодоксом из ортодоксов и душил любые новые идеи, а теперь вдруг стал демократом. Его единомышленниками в определенной степени были председатель КГБ Крючков и секретарь ЦК Олег Шенин. Хотя и меня, и, как мне казалось, отца всегда удивляли высказывания Шенина. Такой радикальный большевик образца 1917 года.
— А Горбачев?
 |
| Под конец министр Пуго (слева) "не видел ни людей, ни путей для исправления положения" |
— Но все-таки в 1990 году он принял предложение Горбачева стать министром внутренних дел СССР...
— Тогда Горбачев совершал малопонятные кадровые маневры. Я знаю, что существовал план повысить Крючкова, а на его место в КГБ назначить отца. Потом последовало предложение возглавить МВД. Горбачев все откладывал его утверждение министром на Верховном совете. А когда представил кандидатуру отца, начался какой-то кавардак. Он возмущался: "Ты представляешь, партия выдвигает своего кандидата на должность министра. В любой стране в парламенте в таком случае фракция партии ведет работу в поддержку кандидата. А тут на комиссии Верховного совета не было ни одного коммуниста. Сидят десять демократов, и каждый смотрит на меня волком".
— И все это привело его в ряды гэкачепистов?
— Он вынужденно шел на участие в ГКЧП, но оно было не стопроцентным. Не бывает, чтобы ключевой министр накануне переворота уехал со всей семьей в отпуск. Одновременно с президентом, против которого заговор готовится. И играет в санатории "Форос" в бильярд. Он, конечно, был в курсе того, что такие настроения существуют, и их разделял. Он говорил мне, что не должен был вляпаться в это дело, но альтернативы не было. Ему оставалось либо отказаться и фактически встать на сторону ельцинской команды, которую он терпеть не мог, либо остаться, пусть и достаточно формально, с людьми, которые были его единомышленниками,— Крючковым и Шениным. Но он не оказывал им активной поддержки. Ну позвонил раз на телевидение и попросил не транслировать выступление Анатолия Собчака, ну дал машины ГАИ для сопровождения входящих в Москву войсковых колонн. Но ничего больше ему в вину не ставили.
— Неужели при его информированности он не понимал безнадежности всей этой затеи? Что ельцинская команда сознательно подталкивает силовиков к выступлению (см. "Власть" #51 от 25 декабря 2001 г.)?
— Есть информация, которую нельзя получить от агентуры. Возьмите лучшего министра обороны всех времен и народов Павла Грачева. Это был один из надежнейших и ярко высказывавшихся за сохранение СССР генералов. Апологет режима. И старики — Крючков и другие сделали на него ставку. Его специально готовили для действий в условиях чрезвычайного положения. Для непосредственного руководства операцией. В части действий в городских условиях его готовили на комитетских объектах наши сотрудники. А он перебежал, прельстившись постом министра обороны.
— Вы считаете, что длинная цепь разочарований привела вашего отца к решению покончить с собой?
— Ему позвонили и предупредили, что приедут с обыском и ордером на арест. Для него переход в категорию обвиняемого, подследственного был совершенно немыслим. Он, наверное, думал и о том, что нужно спасти от погрома МВД. Когда звено, связывающее руководство министерства с организаторами событий, обрублено, обвинить никого невозможно. И потому финальный шаг — решение уйти из жизни — был для моих родителей единственно приемлемым.
Когда группа захвата приехала, мать еще была жива и врачи пытались что-то сделать. Те, кто приехал арестовывать отца, были в шоке. Замминистра внутренних дел России Виктор Ерин говорил: "Ну зачем они это сделали?!" Сочувствовал нам глава российского КГБ Виктор Иваненко. Только Григорий Явлинский вел себя совершенно хамским образом. Мне просто противно вспоминать то, что он тогда делал. Не хочу вдаваться в подробности.
Тогда мы жили жизнью семьи врагов народа. Было безумно больно и тяжело. Хоронить родителей не давали. Несмотря на страшные препоны, я нашел гробы, машину. Я не мстительный человек, но мне очень хочется взглянуть в глаза тому главврачу ЦКБ в Кунцево, который не позволил попрощаться с родителями в зале прощаний больницы. Нас загнали в подвал морга, где вокруг были стеллажи с трупами. Нести гробы было некому. Я работал тогда в разведке — в первом главном управлении КГБ, и моих коллег из ПГУ не отпустили на похороны. Приказом в категорической форме. Я не виню тех, кто его отдал. В первые дни после августа никто не знал, что будет. Ограничатся ли арестами тех, кого взяли в первые дни, или счет посаженных пойдет на сотни и тысячи. Так что приехали лишь несколько ветеранов. После кремации нам отказывались давать место для захоронения урн с прахом. Мы просили разрешить похоронить их в могиле бабушки — маминой мамы, но нам постоянно отказывали. Урны стояли у меня дома на подоконнике полгода, пока, наконец, разрешение не дали.
И достаточно долго за мной неотступно ходило наружное наблюдение. Я понял, что в разведке мне делать больше было нечего, хотя ко мне там относились чрезвычайно тепло. В декабре 1991 года я ушел из ПГУ.
— И чем вы занимаетесь теперь?
— Работаю вице-президентом фирмы, производящей нефтяное оборудование.
— А что сейчас, когда прошло больше десяти лет, вы думаете о поступке родителей?
— Я считаю, что они с мамой сделали все правильно. Она всегда была с отцом. Я не представляю, как бы он мог жить после августа 1991 года.
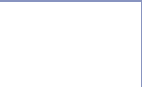 |
|

