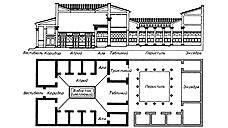Как устроен город
Проект Григория Ревзина

Фото: Reuters
спецпроект

Как устроен город
Проект Григория Ревзина
 Улица
Улица

Париж, бульвар Капуцинок
Фото: AFP / Roger Viollet
"Я видела его только однажды, на слушаниях... Он пришел ненадолго. Никому из нас не удалось выступить, потому что чиновникам всегда дают высказаться первыми, и они уходят, не выслушав людей. Он был в ярости. Он говорил: "Никто не имеет ничего против — никто, никто, никто, только эта кучка мамаш!!!"" Так Джейн Джекобс, едва ли не самая известная фигура "нового урбанизма", описывает свою встречу с "главным строителем" Америки Робертом Мозесом. Каждый, кто бывал на общественных слушаниях, легко узнает эту сцену.
Степень ярости Мозеса можно себе представить. Роберт Мозес к середине 1960-х провел в Нью-Йорке два ЭКСПО, создал десятки парков, построил мосты и хайвеи, каскад гидростанций, 10 больших открытых плавательных бассейнов и т.д. Джекобс была 50-летняя дама, мать двоих детей, журналистка-фрилансер, пишущая про городскую жизнь. Она разрушила планы человека, которого за 20 лет до описываемых событий не смог победить Франклин Рузвельт (президент хотел строить дороги, Мозес построил 16-километровую парковую зону на Лонг-Айленде). Думаю, с того времени знающие люди на слушаниях выставляют против профессионала, чей авторитет не подлежит сомнению, общественницу-интеллектуалку, мать двоих детей.
Мозес продвигал проект Lomex, магистраль, соединяющую Нью-Джерси с Лонг-Айлендом. Для этого требовалось снести 416 зданий, выселить 2200 семей, ликвидировать 365 магазинов и 480 мелких бизнесов. Джекобс подняла грандиозную волну, и, кстати, песню протеста для нее сочинил Боб Дилан.
Нельзя сказать, что Мозес был человеком Ле Корбюзье, а если бы им случилось поработать вместе, то скорее это Корбюзье стал бы человеком Мозеса. Но он был человеком поколения Ле Корбюзье. Его страсть к большим магистралям, модернистским небоскребам (ему Нью-Йорк обязан зданием ООН), общественным паркам, спортивным полям в городах — это все программа Корбюзье. Улицу оценило следующие поколение, люди 1968 года.
В том же 1969-м, когда мэр Нью-Йорка Джон Линдсей объявил, что проект Мозеса похоронен, Джо Дассен написал "Елисейские Поля". Саму улицу Елисейские Поля с ее титулом "la plus belle avenue du monde" в ее сегодняшнем виде создал в 1830-х годах граф Рамбюто. Со времен Луи-Филиппа, при котором он был префектом департамента Сены, до 1969-го прошло больше 100 лет. Не уверен, что их за это время никто не воспевал. Но с другой стороны, плохо представляю себе, как авангард или символизм вообще могли высказаться об улице в позитивном смысле. У Бодлера — "хрипела улица, миазмы источая..." У Маяковского — "Улица провалилась, как нос сифилитика..." Улица у них — мерзость, гниение, тьма, ад.
Поколение 1968 года разочаровалось в больших проектах большого бизнеса по технологическому преобразованию мира, но продолжало верить, что его можно преобразовать через ценности новых коммун и традиционных городских сообществ. Их левый идеализм, кстати, до сих пор окрашивает главные тезисы урбанистики. Но тут важнее другое. Улицы оценили тогда, когда их потеряли.
Если бы не скорострельная урбанизация, переселившая в города половину человечества, можно было бы назвать предшествующие 1968 году полвека крестовым походом против улиц. На самом деле улицы не столько уничтожали, сколько строили новые городские пространства без них — Москва без улиц ровно в 10 раз больше той, где улицы есть. Потому что если вы идете по улице, и слева у вас зелень с помойкой, гаражи и за ними железная дорога, а справа тоже зелень, за ней пустырь с дворовой спортплощадкой, потом опять зелень, а за ней — хрущевская пятиэтажка или брежневская девятиэтажка, и в 50 метрах от дороги налево-направо не то что ни одного магазина, кафе, ресторана, а просто ни одного строения — это не улица, хотя формально может называться Дорожной улицей или, например, Зеленоградской. Это сельская дорога, которая пролегает между полями свободных форм с панельным жильем на них.
Впрочем, и уничтожения тоже хватало — во Вторую мировую войну. "У Корбюзье то общее с люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши",— российские архитекторы, в целом относящиеся к Бродскому с трепетом, свойственным любому советскому интеллигенту, эти строки ему простить не могут, тем более что Роттердам, которому они посвящены, для них является городом образцовым. Забавно, что эта мысль, которая кажется в России поэтически острой и парадоксальной, на Западе имеет статус едва ли не азбучной истины — в лекциях Спиро Костофа для студентов MIT "The City Assembled" ("Монтаж города") она повторяется раз пять, причем каждый раз как сама собой разумеющаяся.
Что касается Корбюзье, то он вполне разделял ту ненависть к улицам, которую испытывали и авангард, и символизм, и предшествующие художественные течения. "Улицы подобны траншеям, прорытым между семиэтажными стенами, за которыми скрыты темные душные колодцы дворов". Корбюзье здесь обличает традиционный город, апеллируя к комплексам поколения, пережившего окопы Первой мировой войны. Вместо этого он предлагал "большие блоки квартир, каждая из которых открыта свету и воздуху и смотрит не на хилые деревья наших сегодняшних бульваров, но на зеленые поля, спортивные площадки и обильные посадки деревьев". Я бы сказал, это и есть Дорожная улица в Москве, только у него эти блоки еще должны стоять на столбах, оставляя первый этаж открытым. Чтобы уж совсем никакой улицы не получалось, а был один простор.
Улицы-траншеи, по мнению Корбюзье, получились из-за дурацкого соединения в одном месте четырех функций — жилья, работы, отдыха и движения. Вдобавок они еще и были кривыми. Корбюзье называл их "дорогами ослов". Чтобы двигаться "дорогой людей", улицы следовало выпрямить, а функции — разделить. Жилые кварталы отделяются от деловых, движение осуществляется по дорогам, жилье отделено от дорог зеленым буфером. Торговлю и услуги он не считал функциями улицы, они отнесены в отдельные здания. Может, поэтому их никогда не хватало в советских микрорайонах.

Химки, район Левобережный
То, что произошло, можно назвать индустриализацией городской жизни. Не в том смысле, что появились заводы. Как производство мебели, одежды, роскоши и т.д. в ХХ веке превратилось из ручного в заводское, так и город превратился в завод по производству жизни. И именно поэтому идеи Корбюзье победили во всем мире. Его талант, дух авангарда и т.д. при всем их значении не победили бы миллионы людей и не увлекли бы сотни правительств. Победила индустриализация жизни, миф мегамашины, как это определяли Эрих Фромм и Льюис Мамфорд, фабрика, позволившая переселить в города половину населения мира. Проблема в том, что этот завод умел производить только очень простые изделия на элементарных станках. А заработал тогда, когда предшествующее кустарное производство достигло шедеврального уровня — великих улиц второй половины XIX — начала ХХ века. В Европе не было таких улиц ни в эпоху готики, ни Ренессанса, ни барокко, ни даже классицизма. Но она к ним долго шла.
Их не было бы без ганзейских городов. Ганзейский союз, соединявший в XII-XVII веках города Северной Европы, создал городское торговое право, включавшее в себя в том числе и "ганзейский дом" — три окна по фасаду в ширину, три этажа, первый этаж — лавка, и даже если ты ничем не торгуешь, то это все равно помещение, куда может зайти человек с улицы (трактир, офис).
Их не было бы без Гранд-канала в Венеции. В этом городе вместо крепостей благородные семейства с XIII века строили дворцы с фасадами. Роль улиц здесь выполняют каналы (а все сухопутные улицы — это на самом деле переулки, где благородные люди не ходят), а канал — устройство, которое без крепостных стен обеспечивает защиту. Это дало старт ярмарке тщеславия — каждое благородное семейство Венеции ставило на Гранд-канале роскошный дворец, единственная функция которого — демонстрировать процветание. От Венеции эту идею переняла Генуя, потом Флоренция и Рим, а потом — вся остальная Европа. К торговой ганзейской улице добавилась улица людей благородного звания.
И европейской улицы не было бы без Французской революции, которая породила новый тип дома. До нее в одном доме могли жить или члены одной семьи, или братья по духу (монастырь, университет). Но революция объяснила, что в одном доме могут быть квартиры людей, не имеющих друг к другу отношения. Квартира может быть без выхода во двор и без террасы — квартиры требуют окон. К общественному первому этажу и благородному фасаду добавились большие окна и балконы, вместе это создало тип дома, который необходим для великих улиц XIX века.
Этих улиц не было бы без европейских шествий. Они начинаются как религиозные. Первым официальным европейским шествием по улицам было папское possesso. Великая французская революция перевела религиозные шествия в гражданские, оттуда идет традиция демонстраций. Но контрреволюция тут, пожалуй, даже важнее, и недаром лучшая европейская улица создана при Луи-Филиппе.
Это улица, масштаб, пафос, качество которой соответствует революции, но при этом созданная так, чтобы революции больше не было. Вместо революционного шествия по улице должны передвигаться "фланеры" — горожане, которые смотрят витрины магазинов, сидят в кафе, смотрят друг на друга и показывают себя — наслаждаются городской жизнью. Отсюда широкие гранитные тротуары, деревья, лавочки, цветы, отсюда уличные фонари, превращающие улицу в подобие зала для торжеств. Иначе — это улица для прохода праздного одинокого горожанина с пафосом государственного шествия, когда все достижения городской цивилизации работают на частного человека.
Разница между улицами Корбюзье и буржуазными улицами XIX века — это разница между механизмом и социальным институтом. Институт бесконечно сложнее, и его специфика в том, что он никем не придумывается и складывается веками. Улица — это институт равновесия интересов человека и общества, который поддерживает государство, тут масса интересов на одной площадке, и каждый выигрывает от столкновения с другими. Собственнику квартиры не нужно кафе на первом этаже и офис в соседнем доме, но цена его квартиры прямо зависит от того, есть ли кафе, а кафе прямо зависит от того, есть ли офис, а то, как они договорились, определяет качество тротуара на улице и место расположения парковки. В сущности, то невероятное упрощение, которое произвел Корбюзье,— это довольно грустная демонстрация поражения ума в столкновении с историей. История бесконечно сложнее, в ней больше логик, чем четыре функции улицы, которые он решил разделить. Он — едва ли не самый умный архитектор в ХХ веке — ничего не понял в улицах.
Проблема в том, что вся эта сложнейшая система, "балет улиц", как выражалась Джейн Джекобс, не работает без власти. Даже хуже — без доверия к власти. В истории европейских улиц полно случаев, когда власть ослабевает, и собственники начинают захватывать улицу — зданиями, пристройками, галереями, киосками, рекламой. Чем власть сильнее, тем улица шире. У нас власть так сильна, что в Москве, скажем, самые широкие улицы в Европе, но доверия к ней немного. И потому любые попытки власти улучшить улицы воспринимаются как наступление на права людей. Соответствующим образом они и реагируют.
Россия, возможно, самая пострадавшая от Корбюзье страна — улица как механизм внедрена во всех ее 1112 городах. Улицу как институт власть пытается пересадить в них сегодня. Нельзя сказать, что это вполне удается. Но не факт, что все провалится. Нет, наверное, ни одного историка, который высоко оценил бы правление Луи-Филиппа. Нет, наверное, ни одного урбаниста, который не видел бы достоинств Champs-Elysees.
 Переулок
Переулок

Перуджа
Фото: Григорий Ревзин
Вступая в переулки, мы оказываемся в области таинственного. Автомобильные навигаторы не прокладывают через них маршруты и поскорей норовят вывести на магистраль. Знакомый программист объяснил мне, что их не удается просчитать — это значит, что хотя переулков не так уж много, но они несчетны, иррациональны. И улица-то редко бывает произведением с четким замыслом, но может таким быть, а вот переулок — никогда. Непонятно, почему он такой и какой в этом смысл.
В словаре Даля такое определение переулка: "ПЕРЕУЛОК, м.— поперечная улка; короткая улица, для связи улиц продольных. Он ходит улками да переулками, крадучись. Глухой переулок, заулок, тупик, из коего нет выхода". "Поперечная улка" предполагает наличие улиц продольных, которым она перечит, что это за продольные улицы, вдоль каких долей они идут, неясно.
Переулок в Москве — тема поэтическая, и это поэзия с ограниченным набором мотивов. Место это, во-первых, чужое: бывает родной дом, родная улица, а родной переулок — это как-то нет. Во-вторых, переулок — это утрата, потеря, место оставленное, следы какой-то прошедшей жизни. Переулок — выпадение из времени не то чтобы прямо в смерть, но в некое никуда. Место небезопасное, одинокое, магическое. Ахматова в стихотворении "Третий Зачатьевский", кажется, собрала все обертоны московского переулка:
Переулочек, переул... / Горло петелькой затянул. / Тянет свежесть с Москва-реки, / В окнах теплятся огоньки. / Как по левой руке — пустырь, / А по правой руке — монастырь, / А напротив — высокий клен / Ночью слушает долгий сон. / Покосился гнилой фонарь — / С колокольни идет звонарь... / Мне бы тот найти образок, / Оттого что мой близок срок. / Мне бы снова мой черный платок, / Мне бы невской воды глоток.
В каждом старом европейском городе есть переулки, больше двух третей из них возникли на месте римских поселений, из римских военных лагерей. Поскольку строительство лагеря было частью военного дела, схема лагеря рационализована до простоты военного устава. В ней есть две главные улицы — Cardo и Decumanus, есть главная площадь на их пересечении, есть прямоугольная сетка улиц вспомогательных, но никаких переулков нет. Переулки самозародились на прямоугольной сетке иррациональным способом.
Сравнение разных по времени планов европейского города чем-то похоже на рассматривание жизни растворов на разграфленном прижимном стеклышке микроскопа, что-то вроде опытов Ионатана Леверкюна из вступления к "Доктору Фаустусу" Томаса Манна. Вот перед нами разграфленная чистая сетка римского лагеря. Вот постепенно на римском плане Urbs vetus ветшает форум, осыпается храм, и через аккуратный квадратик, который он благообразно занимал собой в сетке, вдруг появляется первая тропинка наискосок. Постепенно она перебирается в соседний квартал, потом в следующий, чтобы протоптаться через кварталы до рыночной площади у ворот. Вот на улице появилась — после нашествий, разрушений, чумы — какая-то варварская жизнь. Семья (а это может быть человек сорок) заняла один дом, потом другой, потом — дом на соседней стороне улицы. Улицу они перекрыли, ее вымощенная часть стала внутренним двором их владения, а путь теперь огибает его по маленькой, идущей по задам владения немощеной тропинке внутри квартала. Вот рядом поселилась другая семья, родственная. Вот улица исчезла — вместо нее возник переулок. Вот на плане Urbs Vetus уже виден сегодняшний Орвието.
На востоке то же происходило даже живей, как будто здесь мы видим не сдержанную поросль травы на камнях, а сразу большие охапки кустов. Видно, как на древнем плане Иерусалима появляется какой-то караван, захватывает квартал и перелезает сразу через все его четыре границы. Улицы Дамаска, Кайруана, Иерусалима ведут себя не как европейские, они в свободных отношениях с домами. Дом может перепрыгивать через улицу аркой, на которой располагается жилой этаж, улица может оказаться внутри двора и остановиться. Дублирующего — пусть кривого — прохода никто не создает, улица перекрыта и все. Впрочем, она может убежать на крышу. В Иерусалиме по крышам вы можете пройти от Стены плача почти до храма Гроба Господня, это такой специальный аттракцион — и, по сути, накрышный переулок. Но совершенно обычно и если переулок оканчивается тупиком — это значит, что эта часть улицы находится в совместной собственности соседей. С точки зрения идеи римского лагеря тупиковый переулок — это нонсенс, это лагерь внутри лагеря. В сущности, так оно и есть.
В урбанистике едва ли не с момента нового рождения дисциплины в 1960-х главная тема — городские сообщества. В идеале считается, что каждый горожанин принадлежит какому-то сообществу, что множество горожан делится на сообщества без остатка, а если мы не выяснили, к какому кто принадлежит, это проблема исследователя. В реальности города, в особенности большого, сообществ совсем не так много, как хотелось бы урбанистам, а уж территориальных, соседских сообществ совсем не видно до того момента, пока кто-нибудь не решит что-нибудь снести или построить по соседству. Тут все соседи ненадолго объединяются.
Но в старых, средневековых городах такие территориальные сообщества были. Это могли быть большие семьи, роды, как в раннем Средневековье, которое я описал, позднее это были цеха, сообщества ремесленников, селившихся рядом. У них были свои территории, слободы, "доли" в городе, и по границам шли продольные улицы, а внутри были переулки. И это были не столько частные, сколько не вполне общегородские пространства — на ночь они перекрывались рогатками, а иногда даже имели ворота. Через них и шли переулки.
С этими сообществами вообще-то интересно. Их вовсю теперь изучают — и исторические, и сегодняшние (как, например, сообщество малайской домашней прислуги в Гонконге). Это антропологические исследования — то есть изучение бытовой культуры, языка, системы ценностей, повестки дня, ареала распространения. Может быть, из-за этой антропологичности описания сообщества эти оказываются удивительно похожи на какие-то племена. Вот как бы есть Северная Америка, и там были индейские племена — сиу, апачи, делавары. А есть Париж, и там тоже были племена — студенты, нотариусы, ткачи. У каждого своя ментальность, костюм, обычаи, ценности, места обитания — много чего, развитая культура. Единственное, чего нет,— это истории, то есть вся история сводится к тому, что они были и исчезли. Это именно что культура племени, где время если и течет, то как-то не вполне понятно, куда и зачем. Что-то вроде "эх, время, в котором стоим" из "Сандро из Чегема" у Искандера.
В центре, где переулки есть, породивших их людей не осталось. Все эти молочники, денежники, лучники, серебряники, прихожане церкви Спаса на Песках, Власия, Афанасия и т.д. Но от них осталось чувство бывшей жизни. Чувство племени, которое жило в городе, как в деревне, у себя, где все друг друга знали и проводили досуг, наблюдая, кто прошел мимо окна. Вымороченность и таинственность, чуждость и странная притягательность, чувство утраты и выпадение из времени. Магия места — след его верований и ценностей, может быть, и не высказанных, но сохраненных городской морфологией. Поэтика переулка есть след исчезнувшего сообщества.
Не то чтобы такой тип существования был незнаком сегодняшнему городу. Когда-то мы под руководством архитектора Юрия Григоряна проводили исследование "Археология периферии" про спальные районы Москвы. Я с удивлением узнал, что большинство жителей спальных районов — больше 60% — практически никогда их не покидают (раз в неделю ездят к родственникам или за покупками), годами не бывают в центре города и мало знают о том, что там происходит. То же случилось, когда московское правительство попыталось узнать реакцию жителей на собянинское благоустройство — многие москвичи просто не подозревали, что оно произошло. В спальных районах брежневского времени среда очень мало изменилась с позднесоветского времени — волны девелопмента и модернизации среды почти не докатывались туда. В принципе, можно описать это как жизнь деревни на окраине большой земли Москва, как некое племя позднесоветских людей, время для которых остановилось вместе со смертью Леонида Ильича. Если бы не типовая застройка, они вполне могли бы быть жителями какого-нибудь Олимпийского или Фестивального переулка. Но, к сожалению, система Корбюзье разрушила соответствующую морфологию и сегодняшние формы города не дают им возможности проявить себя. Они сидят на зеленой полянке вокруг своей двенадцатиэтажки, повторяя на новом витке исторической спирали более архаические, чем переулки, догородские, по сути, формы расселения.
Я не слишком разделяю любовь урбанизма к сообществам. Мне кажется, главное достоинство мегаполиса заключается в возможности жить не опознаваемым окружающими. В возможности жить одному, сохраняя известную дистанцию в отношении людей, не расширяя круг знакомств и не без удовольствия прекращая оказавшиеся неудачными. Большой город как социальное устройство хорош тем, что предлагает цивилизованные правила мизантропии — в деревне эта отстраненная вежливость непринадлежности другим недоступна. Но, с другой стороны, возможность пройти по касательной чужой жизни — одно из богатств города, удовлетворяющая естественное чувство человеческого любопытства. Эту возможность и предоставляет переулок. Здесь ничего не продают, здесь нет кафе и ресторанов, здесь ты никому не нужен и тебе не нужен никто — ты просто чувствуешь присутствие чужой жизни. Отчасти это родственно прогулкам по лесу из любопытства — и кстати, это приятнее делать осенью, когда птицы уже улетели и не так галдят.
Ты даже можешь начать мечтать о том, как было бы хорошо жить вот в таком переулке и чтобы вокруг жили твои друзья, знакомые, и вместе это было бы интересно и наполнено смыслом. Вероятно, это атавистическое стремление к стадности. Но интересно, удастся ли кому-нибудь в будущем опять создать переулок. Я даже однажды предложил своему другу, большому девелоперу, строящему целые города в духе "нового урбанизма", рекламный слоган "новые города с переулками". Морфологически кварталы, которые он строит, позволяли это сделать. Но он, подумав, отклонил предложение.
 Площадь
Площадь

Площадь Сан-Марко в Венеции
Фото: Григорий Ревзин
Не то чтобы слово "майдан" вошло в русский язык благодаря Татьяне и Сергею Никитиным, но и не то чтобы без них — зазвучало оно в их песне "Переведи меня через майдан". Стихи написал будущий редактор "Огонька" Виталий Коротич, перевела с украинского Юнна Мориц. Последняя строфа у нее звучит так: "Майдана океан // Качнулся, взял и вел его в тумане, // Когда упал он мертвым на майдане... // А поля не было, где кончился майдан". Неожиданное появление (непоявление) "поля", которого никто и не ждал там, за майданом, мне кажется, отсылает к Пастернаку: "И неотвратим конец пути. // Я один, все тонет в фарисействе. // Жизнь прожить — не поле перейти". Майдан оказывается метафорой жизни, перейти через него невозможно — он бескрайний (океан), можно только утонуть по пути.
Строки приобрели иное звучание, когда ни Украине, ни России благополучно перейти через майдан не удалось, что, впрочем, подтверждает тезис о его бескрайности. Урбаниста здесь должна заинтересовать не политика, а феномен площади, которая нигде не кончается. Должен сказать, это, на мой взгляд, очень русский образ площади. "На Красной площади всего круглей земля" — хотя Осип Мандельштам произнес это в тяжелый момент своей жизни, но образ площади, проявляющей шарообразность земли, предъявляющей нам землю как шар, это гениально. И я не представляю себе ни одной европейской площади, где бы это можно было увидеть так же. Даже площадь Сан-Марко, "самый прекрасный бальный зал Европы", по определению Наполеона, показывает нам весь город Венецию, но не землю как таковую.
Зато, пожалуй, я назову некоторое количество площадей восточных с похожими качествами.
В 1711 году Корнелис де Брюйн, голландский путешественник, художник и писатель, совершил путешествие в Индию и Иран через Россию, описал его и издал со своими рисунками. В отличие от д-ра ист. наук В.Р. Мединского я не считаю это сочинение окончательно клеветническим, впрочем, в любом случае меня интересует не Россия, а Иран. Де Брюйн попал в Исфахан при Солтане Хусейне, последнем падишахе из династии Сефевидов, азербайджанской (или курдской, или туркоманской) династии правителей Ирана. Через десять лет после его путешествия Хусейна свергнут афганцы, начнутся безобразия, но в тот момент Исфахан — огромный процветающий город. На одной картине де Брюйна, однако, это огромное пустое место с крошечными строениями по краям. На другой — "Вид Майдана" — это некий холм, как бы лысый череп земли, укрытый бесконечными тряпичными навесами, под которыми торгуют, а скорее даже как-то живут торговцы, тут и там появляются верблюды.
Был такой русский, а впоследствии американский историк Михаил Иванович Ростовцев, исследователь Рима и римского Востока, ему принадлежит термин "караванные города". Это те, которые возникли на пути из Китая и Индии в Европу, их десятки, и жизнь их длится от античности до позднего Средневековья. Европейские торговые города (как Брюгге или Амстердам) возникали вокруг портов, но пустыня — то же море, только вместо кораблей верблюды, а вместо порта — майдан. Это огромные пространства, совершенно несопоставимые с размером города, жители города — это фактически обслуживающие майдан местные рабочие, а караваны останавливаются на самом майдане (или позднее в караван-сараях) во временных палатках. Когда караваны уходят, город кажется совершенно пустым. В сущности, это город для кочевников, пасущих товары.
Вот в этих городах и появляются площади, размеры которых позволяют заметить округлость земли. Позднесредневековая Москва — место встречи Востока и Запада, между европейским замком, Castello, как называют Кремль иностранные путешественники, и citta (откуда, как мне нравится думать, название Китай-город) располагается бескрайнее пустое место, нынешняя Красная площадь, русский майдан, как бы помнящий о бескрайних пространствах, где движутся купеческие караваны. И все Средневековье она была заполнена телегами с товарами, которые подвозили в Москву купцы.
В русском языке возникла смешная аберрация: английская "square" превратилась в "сквер", потому что их square — это, конечно, никакая не площадь, она не доросла до нужного размера, это разве что сквер. Размер площади европейского города почти никогда не бывает больше 100 метров в длину, это же максимальный размер квартала,— и площадь, собственно, и представляет собой пропущенный застройкой квартал. По русским, или ташкентским, или исфаханским меркам она крошечная, там не поместится и 50 верблюдов. Но у нее иная функция — на ней должно помещаться местное население, собирающееся для решения своих коммунальных вопросов. Верблюдов и не предполагается. Эта площадь — порождение не кочевой торговли, но оседлой коммунальности. И даже тогда, когда мы имеем дело с великими городами, как Венеция или Сиена, это все равно камерное по азиатским меркам событие. "Прекрасный бальный зал Европы" — это все же бальный зал, бал — это мероприятие не для чужих караванов, но для своих гостей. Конечно, и в Европе были торговые площади, но они делались по образцу и подобию вот этих, коммунальных. Главная торговая площадь Венеции — это площадь рядом с мостом Риальто, и по сравнению с Сан-Марко это крошечное пустое место в плотной сети переулков и дворцов. Что соответствует некой иерархии ценностей, где бал стоит несколько выше базара.
В урбанистике есть понятие "общественное пространство", и сейчас все очень увлечены этими пространствами. Определение общественного пространства в любом тексте начинается со слов: это не только площадь, но и улица, бульвар, набережная и т. д.— и из этих слов как бы отчаянно прорывается: это прежде всего площадь, площадь и еще раз площадь. Я вообще-то не уверен, что общественное пространство это самое большое достоинство города, поскольку главная его функция — социальный контроль. Жизнь на площади — это жизнь под социальным контролем, и, собственно, ее основная функция — в экспликации правил контроля, принятых в данном социуме.
Но, даже учитывая это обстоятельство, признаем, что социальный контроль на базаре и на балу — это несколько разные вещи. Коммунальные площади европейских городов работают как своеобразные открытые гостиные, и сам обиход — кафе, столик, официант — примерно те же, что в лобби гостиницы или на приеме. Правила базарной площади определяются торговой культурой, а караваны купцов непредставимы без разбойников. Часто (как в варяжской — то есть русской — торговле) это вообще одно и то же, и майдан — место не то чтобы бранное, но не без того. На приемах редко разговаривают матом, а на базарной площади редко без него обходятся. В гостиной трудно представить себе вора-карманника, но щипач на базаре — это древняя и в известном смысле респектабельная профессия, требующая таланта и обучения. Дико представить себе наряд милиции, пришедший на бал. Это почти так же странно, как Красная площадь вообще без ментов — как? — где? — что случилось?
Социальный контроль — он же и мера свободы. Коммунальная площадь — это пространственное выражение устойчивой немецкой формулы "воздух города делает свободным". Сегодняшний урбанист скажет "воздух города делает обязанным". Коммунальная жизнь — это бесконечное перераспределение тягот и обязанностей, бюргеры постоянно решают, кто на этот срок выбирается в тот магистрат, кто в этот, кто какие налоги в каком году платит, кто отвечает за вывоз мусора, а кто за ремонт стены. Тут особенно не оторвешься. А майдан — это воля. Ты обмениваешься с другими, незнакомыми тебе людьми, и не только деньгами и товарами — еще и социальным вниманием, новостями, необычным поведением, настроением. На майдане встречаются потребители и производители чудес, здесь можно увидеть и клетку с котом с надписью "зверь, именуемый кот", и бородатую женщину, и мужика, прибившего к брусчатке свою мошонку.
Естественно, власть — а, как написал Спиро Костоф, "рано или поздно власть приходит на любую площадь", вот и бывшая коммунальная площадь Флоренции становится дворцовой площадью Медичи,— стремится как-то контролировать эти отношения свободы и обмена. Но контролировать свободу собраний на приемах и балах — это не то, что контролировать вольницу на майдане. Одно дело промасленная ветошь, другое — пороховой склад: одно иногда и очень медленно воспламеняется, а другое взрывается мгновенно. В одном случае — как на Уолл-стрит — власть применяет дубинки, а в другом — как на Тяньаньмэнь — танки. Россия между Востоком и Западом, поэтому русское предъявление власти на площади своеобразно.
Если мы посмотрим на историю Красной площади, то в социальном смысле вся она, начиная с указа Бориса Годунова, повелевшего убрать все торговые палатки, запретить торговлю с телег и вытеснить весь этот сброд в торговые ряды, из которых вырос ГУМ, и до возбудившихся до состояния нервного срыва чиновников и депутатов, выкинувших в 2013 году с Красной площади выставочный павильон Louis Vuitton,— это история зачистки Красной площади от вольных торгующих элементов. Идеальная русская площадь — пустая, зачищенная поверхность перед райкомом, горкомом, обкомом и, наконец, Кремлем. Учитывая цену городской земли, это довольно роскошно. Репрезентацией власти является пустота, пустота без конца и без края, безграничная пустота.
Это несколько бесчеловечно и, я бы даже сказал, бесконечно далеко от идеалов friendly-city. В конце XIX века российская власть осознала это обстоятельство и стала засаживать бесконечную пустоту площадей Санкт-Петербурга какими-то кустиками и сквериками — так появились Адмиралтейский сад или сквер Александринского театра. Полагаю, что в известном смысле нынешнее благоустройство можно рассматривать как продолжение той же традиции. Тут есть минусы и плюсы, сказано же, что враждебные элементы лучше уничтожать на дальних рубежах, а не ждать, пока они заявятся к тебе на площадь.
Но вот парадокс. В 2009 году я в силу странных жизненных обстоятельств оказался членом Градостроительного совета Сколково. Жак Херцог и Пьер де Мерон с одной стороны въездной площади проектировали Университет, Жан Пистр с другой проектировал огромное, напоминающее терминал аэропорта здание технопарка. Саму площадь длиной в полтора километра они оставляли совершенно пустой, она открывалась в поля, в горизонт, где маленькой букашкой маячило здание МГУ. Дорогие Пьер, Жан и Жак,— убеждал я их,— а нельзя ли нам маленькую, уютную, закрытую европейскую площадь, площадь-гостиную, зальную площадь. Это так по-европейски, так по-университетски! У нас такой ни одной нет! Они возмущались, негодовали и высмеивали мою провинциальность. Посмотрите, какой здесь простор! Какое величие! Какое единение с природой! Не убедил.
 Парк
Парк

Эдуард Мане. «Завтрак на траве», 1863 год
Фото: Музей Орсе, Париж
"Царскосельская статуя" Пушкина написана в 1830 году. Как это ни хрестоматийно, я процитирую:
"Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. // Дева печально сидит, праздный держа черепок. // Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; // Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит".
Примерно через 30 лет Алексей Константинович Толстой продолжил это двумя строками:
"Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский, // В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее".
Ничего святого у человека не было.
В 1982 году Дмитрий Лихачев выпустил книжку "Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей" — прекрасную, но она заканчивается английским живописным садом, 1830-ми, когда Пушкин и написал свой экфрасис. Что интересно, другие, не столь прекрасные книжки по предмету тоже, как правило, заканчиваются этим периодом. Как будто до 1830-х в парках была и поэзия, и семантика, а после — только генерал-лейтенант Захаржевский.
Проблема в том, что все те парки, о которых рассказывал академик Лихачев, не городские, а загородные. Это совсем другое устройство. При этом городской парк как тип появился после того, как из парков ушли семантика с поэзией. Там был небольшой промежуточный период в конце XVIII — начале XIX века, когда разнообразные просветители пытались привить горожанам вкус к прекрасному, доброму и вечному путем снятия ограничений на посещение аристократических парков для всех горожан, но это только способствовало постепенному изгнанию из парков мифологических смыслов. Вряд ли кому-нибудь придет в голову искать образ рая в саду имени Баумана, даже если он и был в первоначальном голицынском саду. Что же касается новых публичных парков, они понятной семантики были лишены изначально. Даже самые известные из них — возьмите хотя бы Central Park в Нью-Йорке Фредерика Ло Олмстеда — не про Олимп или Парнас, а про растительность как таковую. Качество воздуха, воды, состояние растительного покрова, ливневка, канализация — заботы в духе генерала Захаржевского.
Если попросить Google найти проекты благоустройства городского пространства — public space design,— то вы получите бесконечный ряд картинок газонов, клумб, живых изгородей, аллей и отдельных деревьев. Неважно, что благоустраивается: улица, бульвар, площадь или набережная. Газоны с шезлонгами или просто трава для возлежания, фонтаны-шутихи, лавочки, столики для пинг-понга, хаф-пайпы, катки и горки зимой — все это насаждается повсеместно. Вдобавок максимально ограничивается автомобильное движение и изгоняются парковки, так что теперь идеальный горожанин — это пеший энтузиаст зелени, и Москва тут не отличается от Парижа и Лондона. Но это значит, что парки выбрались за свои ограды и норовят захватить город целиком. Человеческое пространство оккупируется утратившей семантику растительной жизнью. Это находится в известном противоречии с неясностью их смысла.
Впрочем, нашествие парка на город, ставшее сегодня эмблемой friendly city, пугает меньше, чем могло бы, поскольку для нас тут новости нет. Девять десятых Москвы так и устроено: спальные районы и есть гиперпарк с встроенными в него изделиями домостроительных комбинатов. Это прямая реализация провидений Ле Корбюзье — он и считал, что новый город должен состоять из блоков многоквартирных домов, утопающих в зелени. Снести исторические центры, как он предлагал в Париже и в Москве, и заменить их "жилыми единицами" авангарду не удалось, атака захлебнулась в мещанской привязанности горожан к переулкам и дворикам, а государств — к национальным символам. Ну что же, не получилось — это не повод сдаваться. Сегодня мы переживаем вторую авангардную атаку: на город спустили зелень.
Городской парк в Европе — порождение XIX века, эпохи промышленной революции. Круг идей этого времени хрестоматиен — машина, прогресс, капитал, пролетариат, освобождение — и прекрасно выстроен как нарратив сознательно творимой человеком истории, пути в светлое будущее. Есть, впрочем, идея, которая в этот ряд не вписывается, поскольку в будущее не устремлена, но тоже имеет непосредственное отношение к паркам: руссоистский человек. Человек Руссо, который деконструирует все институты цивилизации — собственность, власть, церковь, образование, искусство и т. д.— на том основании, что в природе ничего этого нет — и, следовательно, все это противоестественно. Следует вернуться к природе и соединиться с ней. Это и было смыслом новых городских парков. В них горожане — прежде всего городские низы, рабочие люди, которых раньше в парки не пускали,— могли приобщиться к природе как истине. Парк в этом понимании не образ высшего мира, но истина природы сама по себе.
Именно поэтому он утрачивает мифологические и аллегорические смыслы, ему не нужно ничего обозначать — растительность сама по себе есть высший смысл. XIX век наполнен разнообразными экспериментами предпринимателей-филантропов и друзей человечества по созданию идеальных форм жизни для рабочих. Парки становятся если не обязательной, то всегда желательной частью американских company town (это то, из чего потом выросли наши моногорода) — если ты строишь фабрику, где будут работать, подумай о парке, где будут отдыхать.
Конкретные европейские проекты Шарля Фурье, видевшего новый город подобием Версаля с фабриками внутри дворца, Роберта Оуэна, которому был ближе образ барочного монастыря или казарм, Эбенезера Говарда, чей "город-сад" наследовал идеальным городам Ренессанса, или Тони Гарнье, придумавшего современный ленточный индустриальный город, могут сильно отличаться. Но общим было то, что новый индустриальный город должен был состоять из трех частей — жилье, фабрика и парк.
Город оказывается полярной структурой: есть поле естественного — природа, где истина и свобода, и поле противоестественного — фабрика, где машины и эксплуатация. Парк связывается с революцией. Теперь школьникам не надо изучать историю Коммунистической партии и слово "маевка", вероятно, должно перейти в разряд устаревших, но история рабочего движения наполнена парковыми событиями — парки для рабочих оказались главным местом собраний профсоюзов и левой агитации. Лекции в парках изобретены вовсе не белоленточным активизмом, но движением за освобождение рабочего класса.
Впрочем, революция может быть не только социальной. "Завтрак на траве" Эдуарда Мане, пожалуй, самый яркий документ столкновения двух эпох парка — старой, аристократической Европы, где парки наполнены прекрасными нимфами и наядами, и новой — демократической, где они наполнены джентльменами, исполненными критического отношения к порядку буржуазного мира. Их соединение дает нам идею сексуальной революции, все того же естественного человека, избавившегося от сковывающих его условностей.
Есть известная фотография Ле Корбюзье начала 1950-х годов на вилле Кабанон, где он позирует обнаженным, полуобернувшись от абстрактной картины, которую рисует. Не то чтобы во все времена художники добивались больших успехов, рисуя обнаженными, более распространено обнажение модели, но в этот исторический момент нагота была принята и создавала ощущение подлинности создаваемого искусства. Отцы-основатели архитектурного авангарда после Второй мировой войны (как и отцы-основатели художественного в начале ХХ века) разъехались по сельским местностям и часто фотографировались в таком виде. Крах европейской цивилизации, пришедшей ко Второй мировой войне, привел к необыкновенной популярности идеи начать все сначала — вернуться в природу и жить там в простоте естественного человека.
И победное шествие микрорайонов с парками в 1960-е, несомненно, вобрало в себя энергию того послевоенного энтузиазма радикального обновления. Не вполне уверен, но мне кажется, что хиппи унаследовали этот пафос послевоенного авангарда. Идеальный парк ХХ века — это, несомненно, Вудсток 1969 года, соединивший в себе социальную и сексуальную революцию, самое яркое воплощение идей Руссо, которое, вероятно, сильно бы поразило и его самого. Да, Вудсток случился вне большого города, но лишь потому, что городские парки к таким масштабам раскрепощения не были готовы. Собственно, этот смысл парка — освобождение от цивилизации, личное и социальное раскрепощение — никуда не делся и по сию пору, и вовсе не случайно урбанисты в европейских странах — люди радикально левых убеждений. Женщины Нью-Йорка, получившие в 2013 году решение суда, позволяющее им ходить в парках города topless, как признание их социальных прав — прямые наследницы не только Вудстока, но и "Завтрака на траве", и даже "Свободы на баррикадах" Делакруа.
Человека консервативного умонастроения это может раздражать. У Бродского:
"Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это — // города, человеков, но для начала зелень. // Стану спать не раздевшись или читать с любого // места чужую книгу, покамест остатки года, // как собака, сбежавшая от слепого, // переходят в положенном месте асфальт. // Свобода..."
Однако эта мизантропия может быть повернута в обратном направлении, в желание, чтобы не город уничтожил зелень, а зелень — города. У нас есть поразительные данные об отношении москвичей к паркам. Москва — очень зеленый город, у нас около 40 кв. м зелени на человека, что в два раза превышает европейские аналоги. Больше 80% москвичей, отвечая на вопрос о том, что примечательного находится рядом с их квартирой, говорят — парк. При этом недостаточное количество зелени стабильно оказывается на третьем месте среди проблем Москвы (после цены ЖКХ и мигрантов) во всех соцопросах. То есть они больше всего любят зелень, у них больше всего зелени и им больше всего не хватает зелени. Некоторые исследователи видят в этом наследие расселения восточнославянских племен в лесной полосе, но мне кажется, что идея более позднего происхождения. За этим стоит непреодолимое желание устроить революцию, послать весь город куда подальше и зажить, наконец, как естественный человек.
 Бульвар
Бульвар
Улица, площадь, переулок, двор, парк — это существовало в городах более или менее всегда, с Иерихона и Ура. Бульвар — изобретение новоевропейское, его не было ни в античности, ни в Средние века. Не то чтобы город был такой вещью, в строении которой трудно что-нибудь изобрести — возьмите хоть микрорайоны с панельным жильем,— но трудно изобрести что-нибудь новое так, чтобы оно прижилось. Москву легко представить себе без микрорайонов, но трудно без бульваров. Появление в городе нового места — это улика, она заставляет подозревать, что в городе появился какой-то новый человек, кому оно предназначено.
Бульвары возникли как побочный продукт гонки вооружений — развитие артиллерии привело к тому, что земляные бастионы вокруг городов утратили смысл. Их засадили деревьями (точнее, перестали рубить те, что там росли,— до того корни деревьев использовались как средство укрепления почвы). Само название "бульвар" происходит от голландского bolwerc — "бастион", из-за бастиона Grand Boulewart напротив Бастилии, который в 1670 году первым был превращен в бульвар усилиями Людовика XIV. Атмосфера Парижа эпохи "Трех мушкетеров" более или менее проясняет замысел короля. Брошенные городские стены и рвы были чем-то вроде Парка культуры до правления Сергея Капкова, местом невинных развлечений десантников и пограничников, мушкетеров короля и гвардейцев кардинала, слишком специфическим местом в городе, чтобы и дальше терпеть его наличие. Впрочем, место изменилось, а публика не вполне — в отличие от парков, бывших частной аристократической собственностью, бульвары стали местом демократического приобщения горожан к природе. Некоторый след этого отличия парка от бульвара еще сохраняется в оппозиции высокой поэзии садов и бульварной литературы, хотя, кажется, уже почти стерся.
Правда, бастионы — это не единственный источник происхождения бульвара. Существовал и другой, аристократический. Мария Медичи, вторая жена Генриха IV, была, если верить Генриху Манну, достаточно меланхолической натурой, не слишком счастливой со своим любвеобильным мужем. Из Флоренции она вывезла любимое развлечение — катание на экипажах по аллее (Corso) вдоль реки Арно. Так вдоль Сены у Тюильри появилась в 1616 году аллея Королевы (Cours la Reine). Нововведение подхватили в Мадриде (Прадо), в Риме (где Корсо приводила к Форуму, вокруг которого было принято кататься, рассматривая руины) и в Лондоне (Пэлл-Мэлл, где деревьев в итоге не осталось).
Но при всем различии в социальном положении родителей бульвара у них было одно общее свойство. Они не были горожанами. Аллея — не городское изобретение, обсаженные кипарисами сельские дороги, так восхищающие нас в Тоскане, отмечали пути к аристократическим поместьям (они создавали приятную тень в итальянский полдень, и сажать кипарисы было обязанностью арендаторов). Бульвары на месте стен и валов обозначали границу города, место, где начинаются поля и леса. И то и другое было вторжением в ткань города посторонней, чуждой ему морфологии — парка.
Это не был парк XIX века с его культом природы и свободы, это был ученый парк классической Европы. Осип Мандельштам точно передал то специфическое понимание природы, которое запечатлено в европейских классических парках: "Природа — тот же Рим и отразилась в нем. // Мы видим образы его гражданской мощи // В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, // На форуме полей и в колоннаде рощи".
Это идеальный мир античной поэзии и мифологии, населенный нимфами и сатирами, философами и поэтами, и в этой парковой античности не было ничего банальнее, чем сопоставление колонны и дерева. Парки с их зелеными театрами, полянами — залами, рощами — храмами были подобием римских форумов, живым доказательством важной для классической эстетики мысли о единстве архитектуры и природы.
Нас же более всего интересуют колоннады — рощи. В римской античности был один уникальный градостроительный прием — колонная улица, когда вдоль улицы ставилась на всем ее протяжении мраморная колоннада, а за ней могли быть любые частные фасады. Как правило, сами дома, сделанные из кирпича, не сохранялись — оставались только ряды колонн, которые и сегодня поражают нас в римской Африке и Азии, а в XVII веке поражали и в Европе. Аллеи были аналогами этих улиц, и деревья изображали собой колоннады античности.
Разница между бульваром и корсо заключалась в том, что по бульвару гуляли пешком демократические элементы, а по корсо ездили на экипажах аристократические фигуры. Великая французская революция перемешала сословия, и так возник французский бульвар. В нем были разделенные полосы движения для экипажей и пешеходов, их порядок мог меняться — как в Москве, где пешеходы движутся по центру, а транспорт по краям (московские бульвары — классические, они возникли на месте городских стен), или как на некоторых бульварах в Париже, где транспорт в центре (это в основе — аллея). Но главное — не порядок, а то, чем они были разделены — деревьями.
Это создало специфический статус бульвара как несколько постороннего городу места. XIX век открыл фигуру фланера — Бальзак, Гоголь, Бодлер, Эдгар По посвятили фланеру диагностические очерки. Там есть своя если не феноменология, то мифология, детально исследованная Михаилом Ямпольским в завораживающей книжке "Наблюдатель. Очерки истории видения". Фланер был чем-то остро новым, явлением как бы никогда ранее не встречавшимся и требующим легитимации. Шарль де Сент-Бев писал, что фланирование есть "нечто прямо противоположное безделью", Бальзак употребляет формулу "гастрономия для глаза", Бодлер просто воспел фланера. Среди урбанистов принято отдавать внимание этой фигуре, отмечая здесь феномен чисто городского поведения.
При всей развитости этой темы добавлю от себя, что иное, потерявшееся со временем название для этой фигуры — бульвардье. Теперь оно, кажется, осталось только в названии классического коктейля с глубоким, чуть сладковатым вкусом одиночества. Изначально фланер — это тип наблюдателя, прогуливающегося по бульвару, и новизна его, собственно, не в типе поведения, но в его объекте. Он прогуливается по городу точно так же, как прогуливался по парку, наблюдая лишь не пропорции золотого сечения у растений, как это делал Гете, не те возвышенные метафоры, которые вдохновляли Мандельштама, а городскую жизнь.
Город, если это старый, средневековый по происхождению город,— жадная до внимания институция, он тебя постоянно рассматривает, предлагает себя, затягивает в двери, лавки, витрины. От него хочется немного отстраниться, я думаю, традиционные маски, вуали или их современный аналог, темные очки, защищают именно от этого легкого неприличия — жадного рассматривания в упор. Бульвар же создает пространственную фигуру остранения — это такая улица, по которой ты идешь внутри и одновременно в стороне от города. Ты рассматриваешь город как будто из парка, из-за деревьев, с высоты той античной традиции колоннад, которая их породила.
Урбанистика много думает о коммунальности горожанина, его принадлежности к сообществам, включенности в рынки социального капитала или здорового коллективизма (кому что нравится). Но город, помимо институтов коммунальности, порождает и множество институтов одиночества, он создает для этого специальные места, пространства рефлексии, поле "иного" в городе. Откуда ты можешь увидеть происходящее со стороны. Конечно, это поздняя конструкция сознания, соответствующая тому беспокойству "отчуждения" человека от Бытия, которая так волнует классическую европейскую философию. Но мне кажется замечательным, что европейский город создает для этого отчужденного специальную форму пребывания — бульвар.
В невключенности есть достоинство, а может, и известная позитивность. Однажды, кажется, в 2012 году, когда культура Москвы вышла из берегов, я имел беседу с вождем этого разлива Сергеем Капковым. Москвичи, если помните, тогда разгулялись по городу в оппозиционном смысле. Я обращал его внимание, что вот, они отправились вовсе не в приготовленный Парк культуры, а вместо революционного занятия центрального партера ЦПКиО имени Горького произошла романическая прогулка писателей во главе с Григорием Чхартишвили по бульварам и чуть диковатый для русского уха "Оккупай Абай". По моему мнению, это демонстрировало, что граждане не приняли капковские парки как "свое" пространство — они отправились туда, где было принято высказывать свое политическое недовольство еще с горбачевских времен.
Сергей Александрович отвечал в том смысле, что и слава богу. Это доказывало, что белоленточное движение, что бы там ни наговаривали недоброжелатели, нимало с ним не связано. Он был прав в этом, но, к сожалению, урбанистическое доказательство не было принято во внимание теми, кому положено. Что показывает, увы и ах, как у нас мало еще настоящих урбанистов в действующей власти. После отставки Капкова вопрос приобрел чисто академический характер. Но в таком качестве все же остался: почему именно бульвары остаются локусом выражения критической позиции? Мне кажется, для урбанистики это интересный вопрос.
 Набережная
Набережная

Набережная реки Фонтанки, Санкт-Петербург
Фото: piter-otel.ru
Вода — это городской мир иной. Как бы вы ни въезжали в город, вам предстоят сначала скучные предместья, потом раздрай срединной зоны и только потом собственно город. Но по воде вы всегда оказываетесь сразу в центре. Как будто прыгаете в центр через портал.
В статье об устройстве набережных Георгий Гольц написал, что здания на московских берегах не должны быть слишком высокими, иначе река покажется узковатой. Они также не должны быть слишком длинными, иначе она будет монотонной. Но и не слишком короткими, не как в Венеции, иначе Москва покажется недостаточно величественной на фоне своей реки.
Вода — это перспективная игрушка. В обычной, сухопутной среде у вас множество масштабных ориентиров — окна, двери, тротуары, машины,— вы хорошо понимаете реальные размеры, и ширина улицы не слишком зависит от высоты зданий, а величественность города мало связана с их длиной. Новый Арбат не кажется уже Старого из-за того, что там высотные здания, а Московский проспект в Петербурге не величественнее Ленинского в Москве, хотя здания тут куда короче. На воде все иначе.
Однажды я поучаствовал в установке памятника Данте и Вергилию в Венеции, против острова Сан-Микеле, который сделал Георгий Франгулян, физически это была бронзовая ладья длиной пять метров с трехметровыми фигурами. Когда памятник установили — в каких-то жалких ста метрах от берега — и мы вернулись на набережную, он превратился в мошку на горизонте, едва различимую с суши. То же с Петром. С воды он кажется пластмассовым солдатиком на макете, из переулка с Остоженки — Кинг-Конгом. Вода играет расстояниями, там нет людей и зданий, там ровная плоскость пустоты, и город постоянно соизмеряет себя с этим.
Набережная — это вопрос того, как сделать эти последние 50 метров на границе бытия. Как должна выглядеть граница с миром иным. Самый простой ответ — превратить эту границу в свалку. В долгой истории городов открытая вода — река или море — ценна несколькими своими свойствами. Во-первых, фортификационно — это препятствие для осаждающего неприятеля. Во-вторых, до распространения железных дорог это самый дешевый способ доставки грузов. В-третьих, это резервуар для сбрасывания нечистот и просто мусора. Все это превращает берега в место, где превалирует мысль хозяйственная, направленная на то, чем бы еще загадить берег. И в большинстве городов, стоя на высоком берегу, метрах в пятидесяти от берега, вы видите величественную пустоту пространства, антипод городской подробности и скученности, но эти последние 50 метров непреодолимы — это полоса препятствий. Предположение, что здесь может быть нечто прекрасное, остро и парадоксально.
Я думаю, поэтому очень долго идея набережной никому не приходит в голову. Это очень позднее изобретение. Ни в античном, ни в средневековом, ни в ренессансном, ни даже в барочном городе набережных не было. Они появились в XVIII-XIX веках в новоевропейском городе, и на вопрос о том, что же тут делать, было дано два ответа — набережная высокого и низкого жанра.
Вероятно, изобретателем первых набережных можно назвать Джона Ивлина. В 1666 году он предложил свой план реконструкции Лондона после пожара, не принятый и не исполненный, но много на что повлиявший. Он предполагал оформление западного берега Темзы каменной набережной с величественными лестницами-сходами и триумфальными арками, оформлявшими выход из города к реке. Можно представить себе степень возмущения лондонских лодочников этой вредной затеей — на всем берегу, где раньше каждый бросал свою лодку где хотел, было бы негде припарковаться.
Для возникновения набережной на берегу должно было оказаться нечто такое, что могло бы позволить себе не разгружать грузы непосредственно у своих стен и не сбрасывать нечистоты себе под нос. Поэтому набережная — аристократическое изобретение. Клод Перро в 1667 году строит восточный фасад Лувра и вместе с классицистической колоннадой впервые оформляет набережную. Это около 500 метров берега Сены. В течение следующих ста лет к этому добавляются набережные напротив колледжа Четырех наций и против Военной школы, а вслед за этим в 1760-1770-х начинается грандиозное строительство набережных Санкт-Петербурга. В известном смысле это наш национальный приоритет — Петербург был второй европейской столицей, получившей набережные, и первой, где они были построены в таком масштабе. Рим, Флоренция, Лондон, Берлин и т.д. украсились набережными позже, лишь в XIX веке.
Это изобретение, так же как и бульвар,— результат перенесения в город парковых приемов. Именно в парках XVII века, прежде всего в Версале, вода приобретает особые функции. Вода — символ власти, поскольку это вода покоренная, приведенная в правильный, геометрический вид бассейнов. Это не стихия, не опасность, но картина, зеркало. Прогулка по парку оказывается аналогом посещения картинной галереи, где виды геометрически правильной природы отражаются в правильных зеркалах бассейнов. Король созерцает метафизический порядок своего царства. Но по мере того, как прием распространяется за пределы королевского созерцания, он создает фигуру наблюдателя как такового, уже не связанную с функциями репрезентации власти. Набережные оказываются картинными рамами для обрамления водных зеркал (одновременно с каменными берегами появляются плотины, делающие воду высокой, а течение незаметным), и по этой городской галерее может гулять кто угодно.
Нужно оценить уникальность этого решения — это место для горожанина с особым устройством сознания. В 1823 году Сильвестр Щедрин создал картину "Новый Рим". Это довольно известное произведение, встречающееся во всех историях русского пейзажа как первый пример российского пленэра. На картине — вид на замок Святого Ангела с левого берега Тибра, примерно от нынешнего моста Умберто I. Щедрин рисовал по гравюре Пиранези 1750-х из серии "Виды Рима", которые, видимо, к 1820-м превратились в своего рода путеводитель для туристов. Набережной у Тибра еще нет, на первом плане лодки и рыбаки, человек двадцать, заняты своими лодками и разговорами. С позиций урбанистики можно сказать, что там у них, вероятно, какое-то рыбацкое сообщество — можно ведь представить себе устойчивое сообщество на реке. Но не на набережной. Набережная — это прогулки, созерцание, размышление, но не коммунальная жизнь. Набережная — это пространственный институт городского одиночества. Тебя помещают на границу с миром иным, вырывают из повседневного контекста и заставляют взглянуть на все из позиции постороннего.
Это роскошный партер перед пустой сценой бытия. Он роскошно обставлен. Кроме Версаля есть еще Венеция. В Венеции изначально нет набережных, дома стоят вплотную к воде, и гулять вдоль воды невозможно, Fondamenta delle Zattere, Fondamenta Schiavoni и Nuove начинают складываться только в XVI веке, а свое мраморное оформление получают уже после Наполеона. Но есть Гранд-канал. Сам образ Гранд-канала, вдоль которого стоят сорок дворцов главных аристократических семейств Венеции, производил неизгладимое впечатление на Европу.
Есть мифология зеркала, ощущаемая скорее интуитивно, и, вероятно, больше женщинами, чем мужчинами. Физически зеркало отражает все, что угодно, но на самом деле только то, что достойно отражения. Это род портрета, а портрет — довольно жесткий инструмент социально-эстетической цензуры. Лиц, достойных отражения в зеркале, сравнительно немного. Если здание представляет собой архитектурное недоразумение, оно редко стремится вылезти поближе к воде для отражения собственного безобразия. Набережная обязывает. Превращаясь в зеркало, вода притягивает к себе ту архитектуру, которая достойна в ней отразиться.
"Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков",— пишет Иосиф Бродский в "Путеводителе по переименованному городу" (перевод Льва Лосева). Это несколько кинематографическое ощущение реки как протекающей мимо тебя киноленты провоцируется эстетической законченностью каждого кадра: кажется, что ты провожаешь взглядом каждый миг созданных кем-то неба и земли и вслед за автором повторяешь: "И это хорошо".
Отражается на этой пленке, разумеется, не только архитектура. В книге Михаила Ямпольского "Наблюдатель" есть восхитительное размышление об облаках. Суть в следующем: открытие Ньютоном преломления света привело в XVIII веке к особому пониманию созерцания небес, когда облака стали пониматься как своеобразная живопись Бога — вот он преломляет облаками чистый свет на цветовой спектр, и так получается мир как картина. В приличном обществе практиковались специальные экскурсии для наблюдения за облаками (почему-то казалось, что особенно удачны они близ Неаполя, и об этом много свидетельств), продавались специальные приборы для наблюдений — стекла с коричневым налетом (для приближения колорита к классической живописи) и зеркала. Увы, это достойное занятие теперь перешло в разряд детских игр с потерянным первоначальным смыслом. Из этого Ямпольский выводит некоторые эксперименты в живописи Уильяма Тернера и метафизический строй этой живописи — попытку зарисовать картину Бога. Это ровно то время — 1800-1850-е,— когда набережные становятся повсеместной принадлежностью европейских городов.
Вода отражает небеса, и созерцание этой небесной живописи и создает уникальность этой среды. Я позволю себе еще одну цитату из Иосифа Бродского, на этот раз из "Набережной неисцелимых". "Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух — есть время <...> В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и — раз я с Севера — к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени" (перевод Григория Дашевского). Изумительно, что город способен соответствовать конструкции такого сознания.
Но увы, оставаться на таком уровне возгонки своего одиночества долго не получается. И отсюда — второй ответ, набережная низкого жанра. Все началось с Брайтона, где в конце XVIII века была устроена первая прогулочная набережная для лондонцев, приехавших в город подышать морским воздухом для поправки здоровья. За Брайтоном последовала в 1822 году Английская набережная в Ницце, далее это пагубное явление распространилось везде. Вместо метафизических набережных великих столиц появились набережные курортные.
Словно специально для того, чтобы снизить философический пафос, повсюду понастроили отелей, баров, ресторанов, местные жители подают креветок, кальмаров, омаров, танцульки, дамы с собачками, адюльтеры. Какое, спрошу я, может быть экзистенциальное одиночество, когда кругом устрицы с шампанским? И это английское изобретение распространилось повсеместно, в XIX веке по Франции и Италии, потом, после Второй мировой,— в Испании, Греции, Турции. Теперь даже если приедешь куда-нибудь на море, а набережной нет (ну как в Сочи), то кажется, что город неполноценный.
В принципе, здесь есть та же эксплуатация границы с иномирностью, что и в высоком жанре — нигде не бывает так весело, как на границе бытия, где ты уже оторвался от повседневности, но еще не перешел в мир иной и весело роишься среди себе подобных. Праздник — это смерть в легком жанре. При некоторых усилиях меланхолического темперамента правильное экзистенциальное состояние можно пережить и на курортной набережной. Помните, у Вертинского: "Потом опустели террасы, / И с пляжа кабинки свезли, / И даже рыбачьи баркасы / В далекое море ушли",— это настроение ближе к делу, но в шансонеточном виде.
Сегодня набережные легкого жанра повсеместно переформатируют по своему образу и подобию высокие. Кафе, рестораны, спортивные приспособления, какое-то идиотское озеленение, прогулочные кораблики с музыкой и танцами и дебаркадеры с тяжелыми развлечениями затыкают, как могут, экзистенциальную брешь в среде города. Без всего этого сегодня город полагается не благоустроенным, так что пока практическая урбанистика еще не добралась повсюду — спешите видеть. Иммануил Кант оставил нам общеизвестное высказывание: "Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас". С точки зрения урбаниста, оно свидетельствует об отсутствии набережных в Кенигсберге в конце XVIII — начале XIX века (что естественно в силу провинциальности этого города). Иначе бы к этим двум вещам добавилась третья.
 Проспект
Проспект

Виа деи Фори Империали, Рим
Трезубец на Пьяцца-дель-Пополо в Риме, где сходятся три проспекта, Корсо, Бабуино и Рипетта, задуман Сикстом V в 1580-е годы. Тогда же Андреа Палладио спроектировал первый европейский театр — театр Олимпико в Виченце. Сцена Олимпико — это схождение трех улиц в створ триумфальной арки и площадь перед ней. Можно сказать, что сцена Палладио — это Рим Сикста. Если учесть, что на Пьяцца-дель-Пополо еще в начале XIX века осуществляли публичные казни (что довольно эффектно описано в "Графе Монте-Кристо"), то можно представить себе, какой городской театр придумал папа Сикст.
Проспекты театральны. Этот театр в Европе так устроен, что, где бы ни находился зритель, город — на сцене, и на него смотрят извне. Так же как набережная или бульвар, проспект выбрасывает вас в позицию внешнего наблюдателя, быть может, не представляющего себе хитросплетения городского спектакля, но зато обладающего знанием о мире за его границами. Зритель, как бы туп он ни был, обладает горизонтом большим, чем у героя: он не умирает, когда опускается занавес — напротив, тогда он начинает действовать.
Формальное искусствознание — есть, а в большей степени была такая дисциплина — требует различать красоту осязательную и зрительную. Там много на этом выстроено: противопоставление Ренессанса и барокко, классики и эллинизма, итальянского и немецкого чувства формы. Проспект — это, конечно, красота зрительная, это изобретение барокко, само слово происходит от латинского prospectus — "вид", или немецкого Prospekt — "перспектива". Но в этой зрительной красоте есть осязательный момент. Взгляд приобретает пластику холодного оружия, разрезающего толщу города, и если разрез точен, то это почти физическое удовольствие.
Проспект — это нечто, что возникает поверх. Город уже или есть физически, или мыслится как нечто менее существенное, что потом как-нибудь нарастет, главное — пробить проспекты. Если город прямоугольный, выстроенный в гипподамовой системе, проспекты идут по диагонали, никак не соотнесенной с конкретным квадратом квартала. Если город "органический", то есть улицы следуют хитросплетениям рельефа и собственности, то проспект прямой.
Сикст V, который, собственно, и придумал проспекты, соединил проспектами главные христианские святыни Рима и в створе каждой улицы на площади перед церковью установил обелиск — как восклицательный знак: вот, сюда иди, здесь важное место. Объяснялось это заботой о паломниках, чтобы они не следовали интригам средневековых улиц, а организованно маршировали от мощей к мощам, от чуда к чуду. Это нечто вроде "топ-10" римских святынь, только не в путеводителе, а непосредственно в пространстве, рефлексия Рима на предмет выделения самого главного.
Проспект — это осмысление города, резюме его пространственной структуры, выстраивание логики — набора аксиом и правил вывода — непосредственно в физической реальности. Аксиомы — главные места города, проспекты — правила вывода. Людовик XIV, второй после папы Сикста создатель трезубца проспектов, трех улиц, сходившихся в Версале (символической точкой схода была комната короля), недаром называется "король-солнце". XVII век — время популяризации гелиоцентрической системы, взглядов Галилея и Коперника. Для людей, далеких от астрономии: это такая история, что центр мирового порядка оказался вообще не на Земле, и основание мирского порядка — не крепость, но система координат. Для утверждения такого необычного взгляда на вещи понадобилось больше ста лет, но когда он утвердился, надо было действовать. В Версале, помимо разнообразной солярной символики, эта сетка и проложена — сквозь поселения, леса, воду и землю. И точно так же произошло в Петербурге. Твердью, основанием города оказывается не рельеф, не социальный порядок, не экономика, но система координат на абстрактной плоскости. Все остальное может меняться, здания строиться и сноситься, люди рождаться и умирать, но все будет происходить в этой сетке.
Проспект — не улица. Не слишком важно, есть ли на проспекте магазин, кафе, церковь. Их может вообще не быть — Невский проспект сначала обозначался только линиями деревьев, дома достроились потом. Проспект воздействует именно как перспектива — рамой входа, структурой порядка по краям и точкой схода, шпилем, обелиском или триумфальной аркой. Проспект — это городской телескоп, устройство для соизмерения города с пространством вообще. "Есть бесконечность бегущих проспектов с бесконечностью бегущих пересекающихся призраков. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же — ничего нет". Это — "Петербург" Андрея Белого, переживание точное и острое. "Ничего нет" — это пустота пространства как категории, nihil предъявленной абстракции Космоса.
Разумеется, такой проспект — это манифестация абсолютной власти. Само прорезание городской ткани прямыми есть прямое насилие, прежде всего над людьми. Отчуждение земельной собственности и разрушение зданий до того было обычной мерой в отношении тех, кого коммуна объявляла преступниками и изменниками, папский эдикт 1480 года приравнял к ним тех, чьи земли нужны для общегородских нужд. Современники с ужасом описывали градостроительные преобразования Сикста V: "В душах многих людей, чьи виноградные поля и сады попали под линии улиц, поселился ужас и страх, ради прямых дорог головы летели с плеч". Но это власть не только над людьми. Сама земля была препятствием идеальной геометрии проспектов — как писал Доменико Фонтана, папа Сикст "протянул улицы от одного конца города к другому, не учитывая холмы и низменности, которые эти улицы пересекали, срезав здесь и повысив там, он сделал их ровными и потому самыми красивыми пространствами...". И так действовали все строители проспектов, вплоть до Муссолини, Гитлера и Сталина, проспекты в этом смысле — незаживающие раны, нанесенные властью.
Они не заживают в буквальном смысле. Рисунок Разума на земле работает так же, как рисунок естественного ландшафта. Чем власти больше, тем проспекты шире, и перейти с одной стороны проспекта на другой — это деяние. Жители левой стороны Ленинского проспекта — самые редко встречающиеся посетители Парка культуры среди москвичей. Жители Дорогомиловской полагают Сити дальним пригородом на горизонте. Проспекты работают в городе как урочища, овраги, каналы — они разделяют его на несообщающиеся части.
И потому люди, нацеленные на органическую, естественную жизнь в городе, проспектов избегают. В позднесоветское время среди интеллигенции была распространена своеобразная игра — пересечь город, ни разу не выходя на широкие улицы. Дворами, переулками, сквериками, через заборы — лишь бы нигде не попасть в координаты власти. Это немного напоминает атмосферу "1984" Оруэлла — мы движемся через слепые зоны в зрении Старшего брата. Сегодняшний урбанизм всячески пытается залечить проспекты: озеленить, обставить лавочками, фонарями, пересечь пешеходными переходами — все это напоминает тщательно обработанный косметикой шрам.
Проблема в том, что проспект — не только насилие, но насилие прельстительное. В политологии принято различать две стратегии элиты — установление нужных ей правил исключительно для себя или в виде всеобщего законодательства. Проспекты власть прокладывает, конечно, для себя — как выразился король Фердинанд Неаполитанский, "узкие улицы — это опасность для государства". Бенито Муссолини, разрубивший римские форумы проспектом Империи (теперь Via dei Fori Imperiali), объяснял замысел так: "прямая улица не дает нам потеряться в меандре гамлетических сомнений"; проспект оказывался метафорой политического действия.
Но проспекты нельзя проложить так, чтобы ими могли пользоваться только король, гвардия и министры, а остальные их как бы не видели,— нет, они становятся частью всеобщих законов городского пространства.
Проспект — такое же "иное" города, как бульвар или набережная, он извлекает вас из органики повседневности и заставляет воспринимать его в одиночестве и извне. Но отличие в том, что это не постороннее наблюдение — это вы режете его взглядом, выделяете самое главное, отправляя дорогие подробности жизни на периферию зрения. Проспект — это место, где вы со смущением обнаруживаете в себе родство с абсолютной властью. Конструкция математических координат, логика и иерархия ценностей, рисунок Разума — это то, что делает нас людьми. Проспект — это манифестация суперэго города.
Впрочем, есть и иной путь. Можно весь городской пейзаж превратить в подобие проспекта — превратить дома в одинаковые прямоугольники и расставить их по порядку, избавиться от всякой органики жизни и растворить проспекты в полностью преобразованном математикой ландшафте. Это то, что сделал Ле Корбюзье. В его проспектах нет ничего травмирующего — они просто чуть шире, чем соседние дороги, и на них установлен иной скоростной режим. Когда весь пейзаж — травма разума, отдельные его линии ничем не исключительны. Правда, слово prospectus к ним не очень подходит — смотреть некуда и незачем.
 Дом
Дом

Фото: Григорий Собченко
Город на восемь десятых состоит из жилых домов, и в целом они как-то не раздражают. Но вот что поразительно. Стоит начать думать про каждый отдельный дом, и возникают сомнения. Почему он тут стоит? Зачем его здесь построили? Не справедливее было бы, чтобы тут был общественный парк или карусели, а не это?
Политики и девелоперы любят Эйфелеву башню в том смысле, что, когда ее строили, возмущению не было предела, а потом она стала символом Парижа. Рассуждение дурацкое — негодовали, когда строили, а символом стала, когда пристоялась. Так что угодно становится символом. Любой старый дом, каретный ли сарай купчихи Лаптевой, пятиэтажка в Капотне или 14-й корпус Кремля всегда найдут себе жрецов с горящими глазами, зрящими сокрытый символ как наяву. И наоборот, не существует ни одного нового дома, относительно которого никто не высказался бы в том смысле, что вас здесь не стояло. В особенности это касается жилого дома. Про храм, полицию или фабрику — понятно, зачем они нужны. Храм нужен, чтобы молиться, полиция — чтоб был порядок, фабрика — чтобы работать, а вот жилой дом? Просто чтобы жить?
Качество архитектуры не имеет отношения ни к силе негодования, ни к числу негодующих. Это скорее вопрос средней температуры по больнице. Сегодня в Москве негодующих будет много, случаются ситуации менее напряженные, но кто-нибудь находится всегда. В этом и проявляется главная проблема дома. Его неуместность.
Архитекторы борются с ней, и, двигаясь по городу, вы видите ухищрения людей, доказывающих, что их дома имеют право тут находиться. Само желание это доказать выдает их неуверенность в себе. Можно попытаться прописаться в прошлом задним числом. Сделать — старинным декором, обнажением остова — стены дома древними на вид. В том смысле, что я давно уж тут стою, раньше вас занимала. Общество на это реагирует ненавистью к новоделам и их разоблачением как экзистенциальной фальшивки. Можно, наоборот, попытаться зацепиться за будущее и объявить себя стартапом, первой ласточкой. Да, сейчас я кажусь существом неуместным, но в будущем все будут, как я. Это не очень эффективно, потому что города, наши в особенности,— своего рода кладбища первых ласточек, и уж больно много их не взлетело. Можно поставить на незаметность, быть как все. Но тут непонятно, зачем нужен еще один такой же, как другие.
Все это мелкие хитрости по сравнению с куда более принципиальной неуместностью дома. В городе об изобретениях поздних — скажем, трамвае или мэрии — рассуждать легко, а первичные выталкивают тебя в философию. Города состоят из домов, но дом — явление не городское. Дома предшествовали городу и принесли в него свои проблемы.
Любое животное делает вход в свое жилище сообразно форме своего тела. Существует бесконечное множество разных типов дверей, но нет ни одной — от античности до наших дней, деревянных, каменных, железных, стеклянных — в форме человеческого силуэта. Вход в дом человека — прямоугольник. И дальше, внутри, там опять плоскости стен и полов, прямоугольники комнат и коридоров, рамы окон. Архитектура царства Разума в буквальном смысле — ума-разума начальной геометрии. И ничего этого — ни прямоугольника, ни треугольника, ни квадрата — нет в природе. Только круги роднят нас с природой, но они, что мучительно переживали еще древние, иррационально несоизмеримы с квадратами. Человек — существо противоестественное. А дом — граница пространства, где сознание может ощущать себя "как дома".
Задача границы — нормализовать конфликт между сознанием в человеке и его отсутствием во всем остальном. Можно создать стену — чем толще, тем надежнее,— чтобы природа не пробралась. Сооружения античности и Средневековья знают пятиметровые в толщину каменные стены, почти без отверстий. Можно замаскироваться, спрятать дом в природу, отдать стены вьюнам и лианам и принять облик ненавязчивой землянки. Сегодняшние озелененные экологическим сознанием дома живо напоминают город бандерлогов из "Маугли". Можно безнадежно надеяться, что есть высший замысел божественной гармонии, на самом деле природа блага и разумна, и ты своим творческим гением постигаешь божественный порядок, строишь дом в соответствии с ним и вписываешься в мировую гармонию или хотя бы создаешь портал для того, чтобы туда попасть. Примеры — от Палладио до Райта — существуют, хотя их не так много, как решений оставить эту нелепую затею.
Город — это целиком пространство сознания, от ворот до ворот, от окраины до окраины, и даже в пригороде оно растворяется не сразу, хотя там зримо нарастает безумие. О, это чудесное искусственное пространство, где ты повсюду свой! Где мысль о собственной противоестественности если и приходит в голову, то не потому, что окружающая материя нагло тычет тебе в глаза своей естественностью. Оно было бы окончательно прекрасным, если бы не другие люди. Вместо того чтобы выписываться в порядок мировой, приходится прописываться в социальном.
Иван Жолтовский считал, что идеального состояния жилой дом достиг в эпоху Ренессанса, и пытался приспособить образы палаццо Строцци, Ручелаи и Питти к типологии сталинского многоквартирного дома для номенклатуры. Ему это до известной степени удалось — когда ходишь по Флоренции, с неудовольствием ощущаешь за спиной фантомное присутствие Большого Брата. Но при внешнем сходстве флорентийские палаццо и сталинские многоквартирные дома — это совсем разные технические устройства.
Классический европейский дом (как, впрочем, и ближневосточный) — это дом семьи. Семья может быть большая, человек сто, с ней могут жить слуги, гости, часть дома могут сдавать, но все равно это устройство для жизни по принципу "сам с чадами и домочадцами". До Великой французской революции под одной кровлей могли жить родственники, братья по крови, воины — братья по оружию, или монахи — братья по духу. Ну а после нее выяснилось, что все люди — братья. Появляются многоквартирные дома. Это изобретение было принято не всеми и не во всем мире. Англичане, приезжавшие в Париж в XIX веке, поражались, что дома здесь такие большие (семь этажей) и что живут в них чужие друг другу люди — это казалось не вполне приличным. Англосаксонский тип национального жилья принципиально отличается, это особняки или таунхаусы, но не многоквартирные дома. Те же страны, в анамнезе которых радикальные социальные революции XIX-ХХ веков, пошли по пути коммунальности под одной крышей. В России многоквартирные дома стали изготовляться индустриально, и на сегодняшний день в них живет чуть больше половины населения страны. Наш национальный тип жилья — это квартира в панельном доме.
История длинна, мозг пытлив, а решить, как жить, важно, так что решений множество. Античный дом — глухой забор, к которому пристроены комнаты, закрытые со всех сторон, кроме центра — двора, и это сердце дома. Дом Филипа Джонсона на Лонг-Айленде, стеклянный ящик на маленьких ножках, где комнаты открыты со всех сторон, кроме центра, санузла с непрозрачными стенами, и это — сердце дома. С морфологической точки зрения между ними примерно такая же разница, как между строением носорога и медузы. Дома можно выстроить в эволюционные ряды наподобие дарвиновских (чем в большой степени и занята история архитектуры), но, глядя на бесконечное многообразие экспериментов, гениальных и идиотских находок, испытываешь прежде всего тревогу не от неупорядоченности результатов поиска, а от того, насколько дом в принципе неустоявшееся, многовариантное изобретение. Как будто само существование этого явления всегда под вопросом.
Знаете, почему так происходит?
Город — это сознание, но коллективное. Это "мы" ("вы", "они"), это множественное число, социум, и люди роятся в нем, получая удовольствие от своей социальности. Но верно и обратное. Дом — это "я". Жилые дома в городе воспринимаются по-особому — ты как бы мысленно в них поселяешься и примеряешь на себя жизнь за окнами. Грамматически "я" — слово, которое язык предоставляет тебе для самопроявления. Дом — такое же устройство в пространстве. Это пространственное местоимение, территория для твоего "я" в физической реальности, ты мысленно ее занимаешь. Но для социума необходимость "я" недоказуема.
 Квартал
Квартал

Париж. План города, XVII век
Кварталы — это клетки городской ткани, материал, из которого строится городской организм. Я бы даже, вслед за Патриком Джедсом, биологом, ставшим урбанистом и впервые предложившим идею "органического города" (он, кстати, создал в 1920-х первые генпланы Тель-Авива, Иерусалима и Яффы), продолжил эту метафору и сказал бы, что строение этой клетки определяет качества города. Некоторые города имеют строение простейших, а в некоторых клетки достигают изумительной морфологической сложности.
Для истории градостроительства обычный вопрос — является ли клетка прямоугольной и, соответственно, выстроен ли город в регулярной сетке или следует рельефу и выстроен из кварталов свободных форм. Джедс именно второй случай полагал "органическим городом". Честно говоря, я не думаю, что степень органичности среды зависит от регулярности сетки: города барокко, скажем, на Сицилии, или классицизма в Испании отличаются средой в высшей степени органичной, а города с тщательно выстроенной в 1960-е планировкой по ландшафту — например Фирмини, спроектированный Ле Корбюзье, или наш Владивосток — бывают на редкость противоестественными. Регулярность сетки — это не вопрос органики ткани, это вопрос о власти.
Мне не известно ни одного города с одним прямоугольным кварталом — их всегда несколько, они всегда следствие деления целого на одинаковые части, и это деление должен осуществить кто-то извне. Люди сами с их врожденными противоположными социальными инстинктами — жаждой равенства и жаждой первенства — о простом геометрическом порядке договориться не способны. Для этого нужна внешняя сила, поэтому регулярный город — это результат воздействия власти. Чаще всего это города, возникшие в результате колонизации, и древнегреческие города на территории Малой Азии (Милет, Приена), римские города в Европе, Азии и Африке (Сплит, Тимгад), большинство американских городов — это прямоугольные сетки колонизующих государств и оплоты колониальных администраций. Градостроительная реформа Екатерины Великой, создавшей Комиссию для устройства городов под руководством Ивана Бецкого, перестроила в регулярной манере 416 городов из 497 существовавших в России — яркое проявление феномена "внутренней колонизации", о которой написал книгу Александр Эткинд,— в отличие от Рима или Британии, мы колонизовали собственную территорию и население.
Но при всей значимости этого вопроса мне он представляется вторичным. Вообще, то, что мыслится прямоугольным, совсем не обязательно является таковым. Сергий Радонежский ясно высказался, что монастырь должен быть выстроен по образу Небесного Иерусалима, и поскольку в Откровении Иоанна Богослова прямо сказано, что Град Небесный "расположен четвероугольником, и длина его такая же, как широта", то и Сергий велел строить монастыри "убо четверообразно". Все русские монастыри с тех пор изображают Небесный Иерусалим, и ни в одном не получилось построить прямоугольных стен. Это прямо какой-то рок: сказано "четверообразно", а на деле какой-то блин. Но все же вряд ли это вызвано органической неспособностью русского архитектурного гения произвести правильный квадрат. Видимо, гуляющие за извивами рельефа стены казались древним зодчим в достаточной степени прямоугольными.
Важна не форма клетки, а то, как устроена граница и что у клетки внутри. Хотя, конечно, когда рассматриваешь планы древних городов — Вавилона, египетской Гизы, Милета, японской Нары — и сравниваешь их с Барселоной, Парижем, Лос-Анжелесом, то это немного поражает, поскольку они неотличимы. Прямоугольные кварталы, чуть различные по форме и размерам, равно свойственны древним империям, республикам, просвещенным монархиям, буржуазным демократиям и тоталитарным мечтателям. Как будто вся история городского человечества в ее высших проявлениях — это просто тетрадка в клетку.
Но эти квадратики кварталов заполнены разным содержанием. В древних городах Месопотамии, Египта, Греции и Рима этот квадрат — просто частное владение. И осваивается оно так же, как садовый участок: сначала строятся высокие стены, чтобы никто не увидел, что внутри, к этим стенам пристраиваются жилые помещения, и все они выходят в центральный двор, патио, где, собственно, проходит жизнь кроме сна — там собирают воду, там бассейн, там готовят еду и т. д. Вообще, древние города были, видимо, в большей степени похожи на мусульманские махалли — кварталы Узбекистана или Туниса, которые сохранили античный идеал непосредственно до сегодняшнего своего массового уничтожения средствами индустриального домостроения. Узкие переулки на одного осла с упряжкой, высокие глухие каменные стены, пахнет сухой горячей гнилью, в праздник по улицам течет кровь казнимых баранов, орут одуревшие от нее кошки и собаки, а внутри, за заборами,— дворцы, фонтаны, сады, бассейны, восточная нега и послеполуденный отдых фавна. Поразительным образом мы воспроизвели ту же структуру пространства в дачных поселках на Рублевке, только каменные заборы заменяет старый добрый профнастил.
Чтобы получить европейский квартал, понадобилась тысячелетняя эволюция. И связана она была с тем, что европейские народы, в отличие от южных, никаких кварталов не знали и жить в них не желали. У них было совершенно иное устройство коллективного пространства, основанное на ином изобретении — "длинном доме", который нам известен по скандинавским раскопкам.
Планы ранних европейских городов (скорее деревень) хорошо исследованы, Анри Пиренн описал их еще в 1920-1930-е годы, а позднее они были детально исследованы великим французским историком Жаком Ле Гоффом. Если совсем просто, то структура там такая. Через город идет лента дороги. А к ней, как флажки, привязываются участки отдельных владений. Они узкие и длинные, с задней стороны они ничем не ограничены и могут быть длинней или короче — кому как надо. Но они ограничены с боков — соседями — на главной дороге у всех одинаковая ширина.
Это, конечно, не "длинный дом" скандинавского типа, где на всю эту полосу было только одно помещение, но это результат его эволюции. Этот дом имел иную морфологию, чем античный. К дороге примыкало главное помещение — лавка, трактир, общий зал. Это было сердце дома — а вовсе не двор в центре участка. Над ним, на втором этаже, располагалось жилище хозяина. Дальше шли жилые помещения второстепенных членов семьи и работников, потом кладовые, потом производственные помещения, потом хозяйственный двор, потом огород. Чем дальше от улицы, тем больше это похоже на деревню.
В принципе, город можно построить и на этой основе. И, скажем, Лондон с его структурой длинных и узких кварталов из таунхаусов в значительной части так и построен. Но европейские города в большинстве своем основаны на местах римских поселений и унаследовали прямоугольную сетку кварталов. И европейский квартал — это результат наложения, скрещивания двух совершенно различных структур расселения. Это очень сложная клетка. Квадраты кварталов нарезались ленточками, и в них строились отдельные дома.
Клетка получила два новых органа. Во-первых, фасад. Теперь квартал выходит на улицу не глухой стеной, а, наоборот, передом дома, он не защищается от улицы, но приглашает войти, открывается магазинами, кафе, банками и т. д. Во-вторых, общий двор. И это — отдельная проблема.
Не все европейские горожане строили себе длинные дома. Существовала аристократия. Есть отдельная история про то, как античный способ расселения прожил Средние века, но, так или иначе, к XVI веку в Европе возникло новое изобретение — городской дворец. В отличие от "длинного дома", он занимал квартал целиком. В отличие от античного дома, он получил роскошный фасад, правда, не для торговли, а для достоинства. И у него был роскошный двор, то, что у нас называется курдонер, буквально "двор чести".
Если вы помните первую парижскую сцену "Трех мушкетеров" Дюма, где д'Артаньян ухитряется нанести оскорбление Атосу, Портосу и Арамису сразу, то действие там происходит во дворе городского дома де Тревиля. Двор европейского дворца — это место, где постоянно находятся дворяне, гвардейцы и мушкетеры, которые соревнуются друг с другом роскошью и доблестью, это гостиная для светского общения, место политики, интриг, сплетен, дуэлей, замена античной агоры.
Вальтер Беньямин в "Московском дневнике" замечает, что в Москве "деревня играет в прятки с городом" — имеется в виду, что, зайдя в подворотню, внутрь квартала, он обнаруживал там совершенно сельский, не городской пейзаж. На улице — ровный ряд доходных домов, а на задах — деревня. Собственно, всем известная картинка из букваря — "Московский дворик" Василия Поленова, изображающий вид во двор из его окна в Трубниковском переулке (теперь тут Новый Арбат),— о том же. Но картина, которая в 1870-е годы была такой очаровательно московской, на самом деле запечатлела этап в эволюции европейского квартала, который проходили все европейские города — просто Москва позже других. Зады "длинного дома", которые выходили внутрь квартала, это были именно сельские зады, место хранения инвентаря, повозок, разного нужного в хозяйстве скарба, а вовсе не "сердце дома", как в античности. В английских длинных кварталах там до сих находятся крошечные палисадники и ямы для угля. Двор европейского квартала сначала был задами — складами для дров, конюшнями, парковками для телег и т. д. Это была не деревня, но нечто вроде городской окраины.
Понадобилось воздействие образа роскошного двора из дворцовой архитектуры, помноженное на желание буржуазии жить по аристократическому образцу, чтобы возник тип европейского буржуазного квартала — роскошный двор, окруженный стеной отдельных домов одной высоты и кратной ширины, парадный въезд во двор и множество сложных, разнообразных фасадов, подчеркивающих отличие каждого дома от стоящих рядом.
Это кварталы Парижа и Каменного острова в Петербурге, сохранившиеся дома конца XIX — начала ХХ века Западного Берлина и Вены, Рима и Барселоны. Это сложное изобретение, которого никто не изобретал, оно родилось само из вековой эволюции. Но после рождения его в течение двух веков шлифовали и совершенствовали архитекторы Европы. Это результат двух наложений — варварского европейского расселения на античные города и аристократического дворца на буржуазный квартал. До сих пор это самое комфортное и дорогое жилье в мире. Ничего лучше и сложнее для построения городской ткани пока не изобретено.
Европейские кварталы могут быть прямоугольными или свободных форм, но при этом они сохраняют эту морфологию клетки. Шахматы — сложная игра, плоскостной порядок из 64 клеток создает множество вариантов и стратегий поведения. Но европейский город — это четырехмерные шахматы человеческой комедии, где ячейка твоего пространства (комната) встроена в порядок таких же помещений в доме, который встроен в порядок домов в квартале, который встроен в порядок кварталов в районе, который встроен в порядок районов в городе,— и при этом ты можешь двигаться по сложным правилам. И все эти отношения продуманы и гармонизированы.
Эта система обеспечивала уместность каждого дома в городе и каждого горожанина в городском сообществе. Она была устойчива, способна к самонастройке и эволюции. Какой самовлюбленный дебил мог решить, что ее можно уничтожить и придумать что-то принципиально лучшее? Мы, в общем, знаем какой — Корбюзье. Но, честно сказать, европейский квартал погиб сам, он лишь сделал из этой гибели выводы.
Почему это произошло? Очень просто — от бедности и жадности. Это изобретение оказалось слишком дорогим.
В конце XIX — начале ХХ века город стали массово заселять рабочие, которых тогда на заводах и фабриках требовалось на два порядка больше, чем сегодня. Они мало зарабатывали, и им нужно было жить по возможности компактно — иначе их трудно было бы доставить на завод к одному времени. Так возник американский "гантельный" дом. Это квартал, застроенный домами практически полностью, вместо внутреннего двора оставалась узкая щель. "Гантельным" он называется потому, что узкие ленточки домов, на которые нарезался квартал, в плане были в форме гантели, чтобы между двумя соседними ленточками образовывалась щель для света и воздуха. Квартиры из-за высокой плотности получились сравнительно дешевыми, но естественного света почти не было, свежего воздуха тоже, столпотворение бедных людей, плохая звукоизоляция, коридорная система не украшали жизнь. Зато девелоперы и домовладельцы получали от рабочих даже больше денег, чем от буржуа с квартирами в нормальных кварталах. Любви к ним это не прибавляло. Принято говорить, что это было ужасное жилье, хотя по сравнению с отечественными бараками или общежитиями для рабочих здесь были определенные достоинства.
Эта предельная плотность взорвала квартал изнутри. Архитекторы левых убеждений, Корбюзье прежде всего, придумали простую и очевидную вещь — жилую башню. Если уничтожить квартал, оставить только его территорию, и построить на ней башню, то каждое окно увидит солнце, ветер будет продувать все квартиры, хватит места для зелени, а плотность можно создавать любую, просто повышая этажность.
И это было правдой. И Корбюзье, который это пропагандировал, действительно придумал лучшее жилье для рабочих, чем предлагали переуплотненные кварталы. Но тут были свои издержки. Была потеряна улица, фасад, общественный первый этаж, двор — и в конечном счете город. Вместо четырехмерной шахматной доски возникло образование из пятен с вертикальными муравейниками и дорожками между ними. Сложная морфология городского организма разложилась до элементарной протоплазмы. Квартал умер. Возник микрорайон.
 Микрорайон
Микрорайон

Фото: Наталья Гарнелис/ТАСС
Новосибирский Академгородок
В детстве меня занимали отношения между домами 34 и 36 по Петрозаводской улице. Это были две хрущевские пятиэтажки (теперь их уже снесли), поставленные так, что они соприкасались только одним углом. По замыслу, вероятно, это соприкосновение мыслилось совсем встык, но в реальности между углами оставалась узкая, сантиметров 20, щель. Взрослый не мог пролезть, но ребенок мог, и это было приключение. Высокая щель, местами выщербленная, зрительно острая и опасная. Она выла от ветра и подвывала тогда, когда его больше нигде не было. Казалось, дома стоят на страже, могут сблизиться и закрыть проход на манер Геркулесовых столбов. Но если проскользнуть быстро, они не успевали. И можно было с пустыря с голубятней, который отделял дома от дороги, оказаться совсем в другом пространстве — на пустыре с качелями,— которое заменяло этим пятиэтажкам двор. Уже в более возрастном, профессиональном состоянии я недоумевал, какой безумец и зачем поставил две пятиэтажки таким образом. В принципе, мир моего детства — Химки-Ховрино — проектировала мастерская Каро Алабяна (который Театр Советской армии), но он, думаю, в этом решении не участвовал.
Такие щели (или что-то подобное) разрывают ткань повседневной банальности и заставляют ощутить, как странно устроилась жизнь. Микрорайоны так обыденны, что их устройству трудно удивиться, но по некотором размышлении любой поймет, что такая форма жизни не могла родиться сама. Это же кто-то так придумал, у этого же есть автор, с него можно за это спросить. Но его нет.
В историях архитектуры ХХ века есть масса важных подробностей изобретения разных новых форм, но микрорайонов нет. Они то ли зарождаются в начале 1930-х в маргинальных поселениях во Франции (так считает Спиро Костоф), то ли в недрах советских территориальных мастерских (деятельность которых так ярко исследовал Марк Меерович) — где-то на периферии истории. Зато теперь они занимают две трети территории российских городов.
Счет принято предъявлять Ле Корбюзье, и в этом есть логика. Он ненавидел традиционный город, он хотел снести Париж и Москву и построить вместо них свои произведения, традиционные улицы — унылые коридоры, как он их называл, вызвали у него почти физическое недомогание — это все правда. Но он не проектировал микрорайонов. Даже городок Фирмини, где он работал с середины 1950-х, приобрел свой нынешний, очень бирюлевский вид усилиями его последователей, а не его самого - он сделал только церковь неописуемого вида и две жилые пластины. Другое дело, что он придумал продукт индустриального домостроения — типовой многоквартирный дом, изделие, взорвавшее традиционный город.
Это был ответ на вопросы города XIX века, не способного решить проблему массового жилья. На неспособность придумать жилье в городе, которое рабочий мог бы купить за свою зарплату. На переуплотненный квартал, где рабочие снимали жилье. На дворы-колодцы, на отсутствие естественного света и воздуха, на имущественную сегрегацию. Этот дом разрушал ценности традиционного города — кварталы, дворы, переулки, улицы, площади, бульвары, набережные. Идеальной формой для него была башня или пластина из одинаковых жилых ячеек, каждая из которых выходит окнами на открытое пространство, вентилируется и освещается. Единственное, что мешало такому дому,— это соседние дома: они загораживали солнце и портили воздух. Поэтому лучше всего было располагать этот дом на лесной опушке, чтобы рядом других не было.
Это было изобретение, поменявшее силовое поле города на противоположное. До того частицы города — дома — тяготели друг к другу, стремились слиться соседними стенами. После — стали взаимно отталкиваться, чтобы не мешать друг другу потреблять свет и воздух,— как одинаково заряженные частицы. Города проиграли в расходах на транспорт, канализацию, отопление, электричество, связь, но выиграли в качестве массового жилья.
Луис Мамфорд, один из ярких критиков индустриальной цивилизации, определял это качество как "минимум жизни". В определении скрыта горькая ирония — в XIX веке достижение минимальных жизненных требований было одним из главных социальных лозунгов. Количество квадратных метров на человека, инженерное обеспечение (тепло, вода, электричество), доступ к образованию, к медицине, к культуре были предметом яростной борьбы. В массовом жилье это превратилось в нормы — законы.
Надо признать, минимальных показателей много где удалось достичь. В России практически нет трущоб или фавел, везде электричество, отопление и канализация, почти везде горячая вода и газ. Для XIX века это фантастическое чудо. Оборотная сторона дела в том, что нормированный "минимум жизни" не позволяет развиваться в сторону максимума, который становится отклонением от норм. В городе из отталкивающихся друг от друга домов не образуется улиц, нет места для магазинов или кафе, здесь не получается выстроить площади с театрами, музеями, клубами, здесь невозможно даже построить дом, отличающийся от типового. Если дома устарели, сносят их все сразу и заменяют новыми — типовыми же. Минимум разнообразия, минимум культуры, минимум потребления — все минимумы стали законами городской жизни.
Микрорайон — это тип расселения индустриального общества. Тони Гарнье, автор первой книги "Индустриальный город", сам Ле Корбюзье в первых градостроительных проектах (план Вуазен, "Лучезарный город"), Эрнст Май в Германии, потом в СССР, братья Веснины мыслили новые жилые районы как продолжение фабрик и заводов. Дома стояли строго по порядку, как продукты производства на складе готовых изделий. Скудость этой жизни была осознана не сразу, наоборот, сначала в визуальном сходстве новых районов с конвейерами по производству "минимума жизни" был мощный жизнеутверждающий пафос. Они сильно отличались от рабочих слободок XIX века. Но постепенно осознание скудости все же пришло.
Параллельно с жильем для рабочих в ХХ веке развивался другой идеал — город-сад Эбенизера Говарда. По результатам это нынешняя классическая американская и европейская субурбия. Говард был социалистом, он предполагал в своем городе-саде зоны производства и сельского хозяйства, он строил общину трудящихся, но все это отпало со временем. Осталась планировочная основа — семейные коттеджи среди садов плюс минимальная инфраструктура. Кларенс Перри, американский последователь Говарда, создал первый из таких городов — Редборн, а впоследствии их строительство стало частью "нового курса" Рузвельта. Коттеджи располагались вокруг центральной площади со школой, мэрией, церковью и магазином.
Если верить Спиро Костофу, то соединение города-сада с новым индустриальным жильем произошло во Франции в начале 1930-х. Идея, правда, носилась в воздухе — когда Маяковский пишет "через четыре года здесь будет город-сад", он имеет в виду Кузнецк (позже ставший Новокузнецком), который застраивается "строчной застройкой" по проекту Эрнста Мая. Проект жилого конвейера не мешает ему видеть здесь город-сад, хотя изобретатель стихов лесенкой мог бы увидеть некоторое однообразие плана застройки. Во Франции была воспринята принципиальная идея Говарда — живописная планировка. Дороги идут не прямо, а по рельефу. Многоквартирный дом заменяет коттедж. Дома ставятся не в ряд, а каждый — как диктует ему его полянка. "Жорж Бенуа-Леви и Анри Селлье после краха частного рынка жилого строительства (последствия Первой мировой войны) адаптировали модель города-сада для своей работы. Первые проекты были в стиле Лечворта (город Говарда.— Г.Р.), затем появилась более плотная застройка. Шатне и Плесси демонстрируют обе фазы: они планировались в английской манере, но к началу тридцатых годов индивидуальные дома стали сменяться четырехэтажными зданиями".
Говард опирался на мощную традицию английского живописного парка. Микрорайон — это поразительное соединение элементарнейшего прямоугольного "минимума жизни" с живописной планировкой. Это как бы Павловск, где вместо дворца, храма Дружбы, галереи Аполлона поставлены пятиэтажки. Только вместо прекрасных пейзажей получаются пустыри, потому что жители не в состоянии ухаживать за этой живописностью. Пустырь с голубятней, пустырь с качелями. К этому добавляются школа и детский сад, поликлиника и магазин, взятые у Перри. Само слово "микрорайон", если верить Вячеславу Глазычеву, первоначально являлось переводом его "neighborhood". Хотя поверить трудно.
Здесь возникала одна проблема — как расставить прямоугольники индустриальных жилых изделий, чтобы возникал эффект "живописности". На помощь пришли опыты русского авангарда. Если посмотреть на планы первых советских микрорайонов 1960-х, то очевидно, что их авторы не просто видели, а тщательно изучали "проуны" Эля Лисицкого — именно поэтому дома становятся друг к другу под странными углами, прямоугольники таинственно сталкиваются, образуя щели, подобные поразившей меня в детстве. Можно представить этого неизвестного мне мастера, который составлял дома 34 и 36 по Петрозаводской улице, радуясь оттепели и проклиная сталинизм, остановивший творческий полет супрематизма.
У Карла Поппера в "Открытом обществе" есть следующее рассуждение. "Общество постепенно может стать тем, что я хочу назвать "абстрактным обществом". Свойства "абстрактного общества" можно объяснить при помощи одной гиперболы. Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда не встречаются лицом к лицу. В таком обществе все дела совершаются индивидуумами в полной изоляции, и эти индивидуумы связываются друг с другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают в закрытых автомобилях. (Искусственное осеменение позволило бы даже размножаться без личных контактов.) Такое выдуманное общество можно назвать "полностью абстрактным или безличным обществом". Интересно, что наше современное общество во многих отношениях напоминает такое совершенно абстрактное общество. Хотя мы не всегда ездим в одиночку в закрытых автомобилях (а сталкиваемся лицом к лицу с тысячами людей, проходящих мимо нас на улице), однако мы очень близки к тому, как если бы мы это делали,— мы не устанавливаем, как правило, никаких личных контактов со встретившимися нам. Имеется множество людей в современном обществе, которые или совсем не вступают в непосредственные личные связи, либо вступают в них очень редко, которые живут в анонимности и одиночестве, а следовательно, в несчастье".
Это написано во время войны. Еще не было ни индустриального строительства, ни такого числа автомобилей. Мне кажется, что микрорайоны и стали способом расселения "абстрактных людей". Нулевая принадлежность, нулевая социальность, нулевое самовыражение по месту жительства. Люди как продолжение фабрик, жилье как завод для воспроизводства рабочей силы.
Но они стремятся стать другими. Слиться с природой и преодолеть собственную минимальность путем авангардного раскрепощения. Это глубоко, удивительно противоестественно. Но, с другой стороны, это точное морфологическое соответствие обществу, выходящему из индустриального состояния. Чем-то это напоминает Кира Булычева, планету роботов, которые завели себе роботов-птиц, кошек, собачек и т. д., чтобы походить на настоящих людей. Жаль, что он не довел метафору до конца, не придумал микрорайонов, где они самоскладируются на ночь, пытаясь, следуя заветам русского авангарда, образовать супрематическую композицию.
 Школа
Школа

Фото: © Михаил Ворожцов / Фотобанк Лори
Город — такое устройство, которое не только предлагает условия для жизни, но и сообщает ей некоторый смысл. Он может быть явным, как в религиозных центрах, где люди толкаются за близость к Богу, может — менее выраженным, когда люди соревнуются за успехи в ценностях мирских, но обычно какой-то все же можно сыскать. В этом плане микрорайоны индустриального домостроения — это уникальный тип расселения. Они не сообщают никакого смысла. Люди не отличают один микрорайон от другого, на вопросы антропологов, чем примечателен их район, жители всех отвечают, что у них рядом парк, и это правда, потому что парки везде.
Это место с нулевой семантикой, тем удивительнее, что вообще-то она там была. Но потерялась.
Генезис микрорайона начинается с города-сада Эбенезера Говарда. У него была социально-экономическая программа, предполагались особая экономика земли и недвижимости, производство, сельское хозяйство и т.д. Но эти экономические принципы почти везде были пересмотрены. У Кларенса Перри, его американского последователя, от общинных земель и производства ничего не осталось — только коттеджи и небольшой коммунальный центр. А в центре находилась школа.
"Школа должна находиться в центре микрорайона так, чтобы у ребенка до дома было не больше полумили (800 метров) и он мог дойти до школы, не пересекая дорог с машинами. Размер микрорайона определяется так, чтобы он мог успешно поддерживать школу, что означает население от 5000 до 9000 тысяч человек и площадь примерно в 160 акров. При этом школа должна использоваться всеми членами общины для собраний и манифестаций, поэтому целесообразно предусмотреть большую спортивную зону вокруг школы для всего сообщества",— пишет Кларенс Перри в своей книжке "Микрорайон" ("The Neighbourhood", 1929).
При такой морфологии поселения смысл жизни в нем становился более чем понятен. Мы живем ради наших детей. У нас в поселке нет развлечений, нет достопримечательностей, тут нечем заниматься, но у нас есть цель жизни. Дети. Эти дети на трехколесных велосипедах фигурировали на рекламном плакате Редборна, первого города Перри, и в расчете на них он и проектировался — все внутренние улицы городка были пешеходными, родители могли не опасаться машин. В начале 1960-х микрорайон моего детства, Химки-Ховрино, получил премию на выставке в Париже за планировку, которая не допускала возможностей сквозного проезда машин. Не сразу поймешь, в чем конкурентное преимущество. Машин в детстве было немного, и въезд автомобиля в микрорайон воспринимался как не исключительное, но все ж таки разнообразящее повседневность событие. Оказывается, это на моем детстве так отозвался Редборн.
Школа и сегодня является главным социальным институтом микрорайона. Вовсе не случайно в школах голосуют или проводят встречи с избирателями, причем это происходит не только, и даже не столько в России, где у выборов есть специфика. Школа — совсем особое место, примерно как для средневековой улицы церковь. Здесь родители знакомятся между собой, здесь возникают общие интересы, здесь выросшие и выучившиеся вместе дети образуют местный социум. С началом массового строительства микрорайонов "ребята нашего двора" меняются на "ребят из нашей школы".

Но при этом школа — институт гораздо старше микрорайона. Изначально европейская школа — монастырское изобретение, и хотя начиная с XVII века светские государства постепенно увели ее от церкви, некоторые принципиальные особенности школы определяются спецификой ее происхождения. В частности, важнейшее свойство школы — ее экстерриториальность, в том смысле, что она может располагаться где угодно и не иметь к окружению никакого отношения. Чтобы связать ее с микрорайоном, сделать ее сердцем общины, требуется эту изоляцию разрушить. Это нарушает массу внутришкольных традиций и установлений. В идее сделать школу обязательным центральным элементом микрорайона с самого начала было заложено противоречие.
Микрорайоны, особенно после того, как изначальные коттеджи Говарда были заменены многоквартирными домами, постепенно захватили чуть не весь мир, так же как и всеобщее среднее образование. Однако ответ на вопрос о школе везде решался по-разному. Парадоксальным образом в наиболее полном виде этот идеал реализован в скандинавских странах, где школа — действительно центр общины. Финские мамы приходят в школу и проводят там время, как в женском клубе,— для этого предусмотрены особые помещения. Папы используют школьные мастерские для бриколажа. Школьный актовый зал — главный зал собраний общины, школьные спортивные сооружения — от футбольного поля до бассейна — главный фитнес-зал района. Такую же модель школы в определенной степени приняли Швейцария, Португалия (правда, здесь, насколько я понимаю, чем город крупнее, тем школа изолированнее). Англосаксонская система образования (а это не только Британия и Америка, но и все страны с бывшим английским колониальным образованием, от Индии до Индонезии) в целом эту идею отбросила. Районной здесь является только младшая школа, а в старшей возродилась монастырская традиция в виде школьного кампуса, часто расположенного вне города и уж точно вне связи с ним.
СССР пошел своим путем. Микрорайон после хрущевских реформ стал основной единицей городского расселения — отчасти под воздействием плана "Большого Лондона" Лесли Патрика Аберкромби (1944), который предполагал строительство 18 городов-садов вокруг города и расселение в них нескольких миллионов человек. Коттеджи, разумеется, были заменены многоквартирными домами, а вот школы стали обязательным элементом микрорайона, и даже конкретные цифры, вроде максимального расстояния в 800 метров от школы до дома без пересечения магистралей, вошли в советские нормативы.
В результате возник специфический тип поселений (кроме стран Восточного блока, он также был принят в новом индустриальном строительстве во Франции). Это многоквартирные типовые дома на поле застройки свободной формы, а в центре этого поля — школа.
160 акров, на которых располагался микрорайон у Перри,— это примерно 65 гектаров. На них у него проживает 5-9 тысяч человек, но у нас в многоквартирных домах на 65 гектарах живет примерно 65 тысяч человек. Что при современной демографии дает 6,5 тысячи школьников. Это производство детей на единицу территории в промышленных масштабах. Нужна другая школа.
"В нашем Советском Союзе,— говорил Трофим Лысенко с его бесподобным умением формулировать,— люди не рождаются. Рождаются организмы, а люди у нас делаются — трактористы, мотористы, академики, ученые и так далее. И это безо всякой идеологической чертовщины — генетики с ее реакционной теорией наследственности..." Если рассмотреть советскую типовую школу с ее системой коридоров и классов, ее расписанием и оценками, ее единым на всю страну учебным планом, единым учебником истории и т.д., то ближайшей аналогией окажется конвейерное производство. Там именно что делают людей. На завод поставляется изделие в возрасте шести-семи лет, оно перемещается для обработки в разных классных комнатах в течение 10-11 лет по четыре-семь часов пять-шесть раз в неделю, и на выходе мы имеем прогрессивного человека без наследственности.
Я не хотел бы говорить о некоторой проблематичности такого способа заточки человека под гражданина. Может, правда, стоит заметить, что полученное изделие хорошо ориентируется в системах, устроенных аналогичным образом — на заводах, в армии, в поликлинике, в очереди, в министерствах и ведомствах,— и оказывается в растерянности там, где пространство предполагает свободу двигаться куда хочешь. Например, в городе.
Но если говорить именно о системе расселения, где школа — это фабрика для изготовления 1000 детей на гектар, то здесь территория школы — это промзона. Промзоны имеют свою специфику. Главное — охраняемый периметр. Главным признаком школы в микрорайоне является забор. Посторонний человек на территорию школы зайти не может — это противоречит требованиям безопасности. По сути, у нас возникла смешанная система: мы делаем из школы изолированный кампус, но при этом располагаем его в центре микрорайона.
Безопасность школы, к сожалению, плохо обеспечивается забором, чему есть масса грустных доказательств. Зато забор прекрасно обеспечивает другое. Если центральное место микрорайона огораживается забором и туда нельзя зайти, то это устройство — микрорайон — перестает работать. Родители, конечно, знакомятся, стоя у забора, но это примерно такое же знакомство, как у родственников заключенных перед входом в СИЗО. Впрочем, это важный социальный навык. Никакого использования школы проживающими вокруг, никакой местной повестки дня, никакой локальной социальности. Эта социальность заменяется пустотой огороженного поля в 3 гектара, на освещение и уборку которого тратится примерно столько же, сколько на зарплату учителей. Любая деятельность здесь запрещена законодательно.
В микрорайонах живет до половины населения России. Смысл жизни есть, но он за забором. В отсутствие "сердца общины" есть одно общепринятое общественное пространство. Место, где люди общаются, где складывается местная идентичность, формируется социум. Единственный элемент обустройства спального района, изготовляемый и внедряемый в России повсеместно,— это детская площадка. Префекты, депутаты, клерки общегородского значения и даже некоторые федеральные чиновники неустанно заботятся о детских площадках, посещают их, дают там интервью, и по состоянию детских площадок оценивают эффективность их деятельности.
Это след первоначального смысла жизни в микрорайоне — жизни для детей. За смысл пространства отвечают дети. От дошкольников до молодых людей возраста первой любви, от молодых родителей до алкоголиков на пенсии — все жители микрорайонов проводят свой досуг в песочницах и на качелях. Тренируя, видимо, детскую способность изумляться тому, как же странно устроена жизнь.
В последнее время современные песочницы стали оборудовать бесплатным Wi-Fi. Так что они смогут связываться друг с другом. И, возможно, это основа для формирования будущего гражданского общества в России.
 Общественное здание
Общественное здание

Агентство: Getty Images
Здание Верховного суда в Сингапуре. Архитектор Норман Фостер
В 2005 году сэр Норман Фостер построил здание Верховного суда в Сингапуре. Это обычный офис из двух белых прямоугольников, но над ним расположена летающая тарелка для заседаний. В России это понравилось. Сергей Чобан и Евгений Герасимов повторили тарелку в Невской ратуше в Санкт-Петербурге (проект 2006-го, построена в 2016-м). В 2011 году президент Дмитрий Медведев поручал архитектурному совету "Сколково" рассмотреть возможность повторить проект для суда по авторским правам, но это не задалось.
Летающая тарелка — образ из мира паранормальных явлений. Или комиксов. Появление его в качестве символа власти, мне кажется, является свидетельством какого-то архитектурного нестроения. Это примерно как храм, символика которого основана на полтергейсте.
Но и без опознавательных знаков здание власти — министерство, парламент, суд и т.д.— трудно отличить от партикулярных строений (офисов, бизнес-центров, банков, институтов).
В 1996 году я вел занятия с группой американских студентов, приехавших в Россию по обмену. Программа была трехмесячной, они изучали театр, кино, литературу, визуальные искусства и архитектуру. По итогам курса я предложил группе составить карту города по памяти. Ни один студент не вспомнил в Москве ни одного здания власти (на картах был, разумеется, Московский Кремль, но его они воспринимали как культурный объект). Москва не кажется городом, где власти мало, наоборот, многие горожане испытывают здесь некоторый ее переизбыток. Но указать, где здесь власть, затруднительно — нигде конкретно. Как достигается этот эффект?
Пытаясь ответить на вопрос, я намерен увлечь вас в мифологические материи.
Изначально слово "потлач" (на языке нутка "pa?a?c", на английском и французском "potlatch") обозначает праздник американских индейцев. Термин приобрел популярность после 1921 года. Некто Дэн Кранмер, видный представитель племени квакиютлов из Британской Колумбии, устроил потлач на 300 человек. За пять дней он уничтожил все свое имущество. Он раздавал каноэ, моторные лодки, одеяла, керосиновые лампы, скрипки и гитары, кухонные принадлежности и швейные машины, граммофоны, кровати и письменные столы, одежду, деньги (желающие могут подробно прочесть об этом — в частности, в прекрасной статье Никиты Бабенко "Потаенный потлач"). Все участники праздника оказались под судом.
Криминализация потлача возникла как результат усилий миссионеров и благотворителей. После колонизации, когда индейцев свели в резервации, они оказались объектом постоянной благотворительной помощи — их учили, им строили дома, привозили одежду, мебель, посуду, лодки, орудия труда и т.д. С прискорбием дарители обнаруживали, что хотя индейцы ценят это, но не пользуются, сохраняя дары как сокровища. В назначенный день сокровища раздариваются и уничтожаются. Это поведение подрывало надежду на то, что индейцы пусть постепенно, но втянутся в цивилизацию и прогресс.
Закон о запрете потлача приняли еще в 1885 году, но он не исполнялся. А в 1921-м был организован судебный процесс. Из 45 задержанных участников церемонии 20 отправились в тюрьму, остальные согласились добровольно сдать танцевальные маски, церемониальные свистки и прочие ритуальные принадлежности потлача и получили условные сроки.
Жорж Дави в книге "Вера в клятву" (1922 год) первым предложил трактовку праздника — потлач как форма социального символического обмена. Потлач осуществляет вождь племени, он может концентрировать в своем распоряжении богатства и власть — поскольку растранжиривает и уничтожает все это в момент потлача. Сразу за Дави вышло знаменитое исследование Марселя Мосса "Очерк о даре", где потлач был осмыслен в рамках идей символической экономики, а потом Жорж Батай противопоставил потлач как "политэкономию траты" буржуазной "политэкономии накопления". Разрушение своего благосостояния — это "микрорепетиция смерти", и тут случилось много интересных смыслов: критика буржуазности, романтика безумия, игра в самоубийство — после Батая потлач стал респектабельным термином, Ги Дебор даже издавал в 50-х годах в Париже журнал "Потлач".
Но при всей значимости этих левых смыслов внятным объяснением уничтожения ценностей являются именно социальный обмен и достижение господства. Действия Кранмера можно сопоставить с поведением другого известного персонажа, и в этом свете они становятся менее абсурдными.
"В должности эдила он украсил не только комиций и форум с базиликами, но даже на Капитолии выстроил временные портики, чтобы показывать часть убранства от своей щедрости. <...> Граждан, которые приходили к нему сами или по приглашению, он осыпал щедрыми подарками, не забывая и их вольноотпущенников и рабов, если те были в милости у хозяина или патрона. <...> Крупнейшие города не только в Италии, Галлии и Испании, но и в Азии и Греции он украшал великолепными постройками. <...> Зрелища он устраивал самые разнообразные: и битву гладиаторов, и театральные представления по всем кварталам города и на всех языках, и скачки в цирке, и состязания атлетов, и морской бой. <...> Атлеты состязались в течение трех дней на временном стадионе, нарочно сооруженном близ Марсова поля. Для морского боя было выкопано озеро на малом Кодетском (Хвощовом) поле, в бою участвовали биремы, триремы и квадриремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов. На все эти зрелища отовсюду стеклось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам; а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе два сенатора".
Эти цитаты из Светония, повествующие о Юлии Цезаре, хрестоматийны. Не менее хрестоматийна и сама практика дарения властью праздников, зданий, вещей, еды и денег городу и горожанам. Гениальный Цезарь тут не отличается от безумного Каракаллы, а средневековые герцоги и короли, абсолютные и конституционные монархи не отличаются от римских императоров.
Принципиальной является идея экономической бессмысленности траты. Средства, потраченные властью на что-то нужное — направленные на повышение жизненного уровня населения, создание рабочих мест, инфраструктуру и т.д.,— в данной логике смысла не имеют.
"Бог насылал на землю нашу глад, / Народ завыл, в мученьях погибая; / Я отворил им житницы, я злато / Рассыпал им, я им сыскал работы — / Они ж меня, беснуясь, проклинали" — все меры, к которым прибег Борис Годунов, потлачем не являются и власть не укрепляют. Должно быть нечто утилитарно бессмысленное. В зависимости от экономической ситуации, даже общественного строя, эта бессмысленность может быть разной — от отсутствия утилитарной функции до экономической неэффективности, и подпадать под нее могут разные объекты — институты религии, образования, культуры и т.д. Но логика одна — действия Юлия Цезаря по строительству форумов, Улугбека по строительству обсерватории в Самарканде, Людовика Святого по возведению Сент-Шапель в Париже, королевы Виктории по строительству великих музеев Лондона и президента Путина, дарящего россиянам зимние Олимпийские игры в Сочи, имеют общую природу. Это ритуал обмена экономически бессмысленной траты на укрепление символического господства.
В этой перспективе едва ли не весь город, и уж точно любое общественное здание, становится репрезентацией власти, ее бесконечной щедрости и морального долга горожан перед ней. Чтобы репрезентировать власть, подходят школы и больницы, университеты и музеи, парки и набережные, церкви и автобусные остановки — все, кроме торговли (поэтому власть иногда занимается изгнанием торгующих из города). Все, что угодно, может репрезентировать, а чтобы отметить как-то специально, что вот здесь у нас именно власть, приходится прибегать к языку летающих тарелок.
У горожан это вызывает смешанные чувства и ведет к появлению различных контрстратегий. Можно пытаться разрушить монополию власти на дарение. Современная Америка, где чуть не на каждом общественном здании написано, на чьи частные средства оно построено, или Москва XIX века, где все больницы, гимназии и музеи были построены на средства купцов, являются одним из ярких примеров такой стратегии. Но автократоры или гибридные режимы реагируют на это или законами, подавляющими частную благотворительность, или прямым управлением этой благотворительностью (в сегодняшней Москве мы видим и то и другое). Другая заключается в том, чтобы перевернуть отношения: создавать группы горожан, требующих от власти общественных зданий и общественных пространств так, чтобы вместо дара получался сервис по обслуживанию жителей. Тогда мы выходим из логики потлача и перемещаемся в осмысленные меры вроде тех, которые неудачно применял Борис Годунов. Правда, мне кажется, что в этом случае на самом деле переосмысления дара не происходит — оперный театр в Копенгагене или парк Хай-Лайн в Нью-Йорке все равно репрезентируют власть. Впрочем, возможно, я просто не могу представить себе ощущений горожан в демократиях — у меня недостаточно соответствующего гражданского опыта. Но в любом случае при реализации этой стратегии горожане не чувствуют себя оскорбленными самим фактом дара.
Самая же распространенная стратегия сопротивления заключается в том, чтобы символически деконструировать дар, объявляя его бессмысленным, вредным и произведенным незаконно. Типологически это те же аргументы, что у миссионеров и благотворителей из Британской Колумбии, цивилизованных людей, столкнувшихся с дикарями и оскорбляющими религиозные чувства дикарей. Сегодня в Москве мы в некотором смысле присутствуем на празднике потлача, даже превышающем по масштабам щедрость Дэна Кранмера,— это собянинское благоустройство.
Достоинства такой модели городского пространства — в обостренном внимании власти к городу. Это все ж таки средство легитимации. Недостатки — в отчуждении от города горожан, не желающих, чтобы их одаривали. К сожалению, в этой стратегии чем дар лучше, тем большая эмоциональная энергия требуется на его деконструкцию. Вопрос, правда, в количестве горожан, не принимающих логику потлача — если их число для власти не критично, то этим мнением можно пренебречь.
 Регулярная планировка
Регулярная планировка

Агентство: Getty Images
Манхэттен, Нью-Йорк
В 1935 году в воронежской ссылке Осип Мандельштам написал стихотворение трагическое и ироническое.
"Это какая улица? // Улица Мандельштама. // Что за фамилия чертова — // Как ее ни вывертывай, // Криво звучит, а не прямо. // Мало в нем было линейного, // Нрава он был не лилейного, // И потому эта улица, // Или, верней, эта яма // Так и зовется по имени // Этого Мандельштама".
Полагаю, оно является вариацией темы "Памятника" Горация. Памятником оказывается яма (могила) — в силу своей физической иррегулярности. А еще мне, прошу прощения за урбанистический взгляд, кажется, это очень неординарное размышление о природе линейной и свободной планировки.
Как ни странно, в истории мы не наблюдаем эволюции от городов иррегулярных к регулярным. Казалось бы, сначала должно появиться поселение свободной формы, потом ему должны придать геометрический порядок. Однако и в Вавилоне, и в Мохенджо-Даро (главном городе Хараппской цивилизации), и в Гизе (Египет, Древнее царство), то есть во всех центрах изобретения городской цивилизации, мы с самого начала сталкиваемся с регулярными планами. Это даже завораживает. Изобретение регулярной планировки оказывается современным изобретению города вообще.
Стоит напомнить, что города появляются примерно тогда же, когда и письменность. Не знаю, насколько оригинальным является это сравнение, но для археолога или человека с филологическим опытом очевидно визуальное сходство регулярных планов древних городов с древнейшими памятниками письменности — будь то хеттские клинописные таблички или египетские рельефы и папирусы.
Письменность и регулярный план — это изобретения-современники и, как мне кажется, родственники. Если угодно, регулярный план — это текст, написанный прямо на земле. Тем более поразительно, что одновременно существуют города регулярные и иррегулярные. Изобретение регулярности выглядит колоссальным цивилизационным скачком, но оказывается, что им можно пользоваться, а можно и нет. Это все равно как изобрести колесо и откатить его в сторону.
С семиотической точки зрения прямоугольные кварталы на территории являются знаками-индексами в классификации Чарльза Пирса (то есть такими, в которых означающее физически связано с означаемым — как, скажем, этикетка с бутылкой, на которую она наклеена). Это индексирование в древности происходило буквально, путем разметки плана города на местности, прочерчивания границ плугом (как делал Ромул при основании Рима). В известной степени так же происходит до сих пор (с той разницей, что план сначала вычерчивается на бумаге или в компьютере). Вопрос — что означают эти прочерченные на земле прямоугольные знаки? И почему ими можно не пользоваться, что заменяет эти знаки, когда регулярной планировки нет?
Об этом и говорит Мандельштам. Улица потому получает его имя, что она (яма) и он (поэт) "нелинейны". Индексом для иррегулярной территории является человек. Следом такого означивания человеком места являются наши именования улиц — хоть той же улицы Мандельштама, которая таки появилась в Воронеже, хоть Немцова моста, который так пока и не появился в Москве. Из таких обжитых и означенных смертью мест и складывается органическое, иррегулярное поселение. За этим стоит представление о неразрывной, сакральной связи человека и территории. Вспомните запреты на продажу земли в феодальной экономике, принципы майората — живые знаки-индексы не могут меняться или дробиться. Кстати, забавным рудиментом этой идеи в современной экономике является необходимость нотариального заверения купли-продажи недвижимости (чего не нужно делать ни с едой, ни с одеждой, ни с механизмами): земля — это такой товар, покупка которого за деньги не вполне законна, нарушает порядок вещей, и требуется юридическая процедура его восстановления.
Что означает регулярный прямоугольник территории, если при свободной планировке участок индексирует связанный с ним конкретный человек? Если бы, скажем, в Мандельштаме было "много линейного", если бы это был такой стандартный, "прямоугольный" Мандельштам, то его имя ничего не говорило бы о месте. Его человеческое качество свелось бы к квадрату.
Здесь стоит вспомнить о роли геометрии в древних цивилизациях. Пифагорейцы, а за ними Платон, видели в геометрии выражение метафизического порядка мироздания. Отсюда проистекают эзотерические следствия учений о пропорциях, но в случае с регулярной планировкой речь идет о самом элементарном геометрическом порядке. Однако смысл его не столько элементарен, сколько очень обобщен. Сама акция соотнесения территории с геометрическим порядком делает ее причастной к порядку разума. Природа не знает прямых углов, регулярная территория — это не просто terra, но terra sapiens.
Если угодно, иррегулярный город сплошь состоит из имен собственных — он размечен уникальностью судеб тех, кто здесь жил и умер. Регулярный город — это город местоимений. В каждом конкретном квартале может жить кто угодно, а может не жить никто, для прямоугольных территорий важно только одно их свойство — наличие сознания.
Спиро Костоф потратил много сил на то, чтобы доказать, что регулярность планировки города не имеет политического смысла. Его аргументы не лишены убедительности и остроумия. На основе сетки устроены города демократические (как у греков или американцев) и авторитарные (как в Древнем Китае, Риме или в СССР) — форма города ничего не говорит об устройстве власти. "Сетка — это сетка и ничего, кроме сетки" — вот формула Костофа. Она звучит прекрасно, но я не могу согласиться. Сетка не имеет конкретного политического смысла, но сетка имеет политический смысл как таковой. Сетка — это власть.
Это не обязательно власть авторитарная. В традициях американской урбанистики принято связывать регулярную сетку с демократическим устройством, и это естественно для людей, у которых есть Нью-Йорк. Отцы-основатели США полагали, что правом голоса обладает землевладелец, а земельное законодательство этого времени предписывало размечать землю в ортогональной сетке, так что вместе получался яркий пространственный образ демократии — все граждане равны, у всех равные наделы, каждого можно свести к квадрату. Однако при этом стоит иметь в виду, что и Мэдисон, и Джефферсон, и Джей, и даже Гамильтон были людьми Просвещения и классицизма и, придумывая страну, вдохновлялись моделью древнегреческой колонизации.
Сами по себе люди, поселившиеся рядом, в силу, я думаю, невозможности сбалансировать два базовых стадных инстинкта — права на равенство и права на первенство — не могут разделить свою территорию на равные прямоугольные части. Для этого нужен внешний фактор, осуществляющий это деление. Конечно, города мормонов (Солт-Лейк-Сити), греческих колонистов (Милет, Приена), римские военные лагеря (Тимгад, Сплит), сталинские и муссолиниевские города имели разное политическое устройство. Однако у них есть одна общая черта — все они были средствами колонизации территории.
Я считаю, что это право — право перевода пространства из terra inconscia в terra sapiens — является прерогативой власти. Колонизация — это превращение диких территорий в цивилизованные еще до того, как на них поселились цивилизованные горожане. Колонизация может иметь самые разные цели — хозяйственные, административные, религиозные,— но эти цели достигаются с помощью политической власти. Если город основан железнодорожной компанией (как, например, Галва, штат Иллинойс) для спекуляции земельными участками, то это означает, что политическая власть в городе принадлежала железнодорожной компании, а если в 1833 году Джозеф Смит нарисовал идеальный план Сиона, воплощенный, по итогам исхода мормонов, в Солт-Лейк-Сити, то это значит, что политическая власть в этом городе принадлежала мормонам. Колонизация — властный жест.
Если мы встречаем примеры добавления к городу с иррегулярной планировкой регулярной части (как в Неаполе) или сталкиваемся с регулярной перепланировкой исторического города — это улика вмешательства власти. Пожалуй, один из наиболее ярких примеров в истории градостроительства — перепланировка российских городов Екатериной Великой, учрежденной ей комиссией Ивана Бецкого, когда большинство из них получили регулярные планы. Этот грандиозный опыт можно связать с высказанной Александром Эткиндом идеей "внутренней колонизации" как основной стратегии российской государственности. Регулярный план был одновременно и средством модернизации страны, и признаком политического доминирования. Напротив, если мы сталкиваемся с постепенной утратой регулярности в городе — а это история большинства европейских городов, выросших на римской основе,— то перед нами след "ухода" власти из города.
Так происходило вплоть до ХХ века — и вдруг все перевернулось. Бесконечные новые районы СССР, отчасти Европы (Франция, Германия), Азии — колонизация спальными районами происходит в форме оккупации свободных пятен без всяких признаков регулярности. Напротив, квартальная застройка исторических центров начинает ассоциироваться со свободной городской жизнью, традициями и "правом на город" (термин Анри Лефевра 1968 года, акцентирующий права городских сообществ в противостоянии власти и спекулятивному девелопменту). Как это возможно?
Мне кажется, для ответа на этот вопрос стоит вспомнить, что в традиционном городе прямоугольник квартала застраивался сравнительно свободно. Мы встречаем там большое разнообразие форм — от городских вилл до многоэтажных домов-каре, от дворов-колодцев до парадных внутренних улиц. Свободная планировка спальных районов неотделима от стандартных жилых ячеек многоквартирных домов. Многоквартирный индустриальный дом — это регулярный город, сведенный в один объем, квадрат квартала, превратившийся в кубик квартиры. Именно поэтому, мне кажется, индустриальное многоквартирное жилье имеет достаточно ощутимый привкус репрезентации власти, и авторитарные режимы — как Россия или Китай — отдают заметное предпочтение этой форме расселения. Так власть становится ближе, интимнее: она приходит к вам в квартиру. По сравнению с этим клетки кварталов кажутся символами гражданских свобод и неформальных сообществ горожан.
 Сакральная аномалия
Сакральная аномалия

Фото: Getty Images
Нет сомнений в том, что важнейшим переживанием города является религиозное или восходящее к религиозному. И тут, я бы сказал, у человечества вообще возникает существенная проблема. Мне кажется, каждый знает это чувство, когда, оказавшись в лесу, в поле, в саду, на берегу моря, в горах, ты внезапно думаешь: это как в раю. Многие переживают это по нескольку раз в жизни, а иные так и каждый день. Но я, честно сказать, не знаю ни одного человека, который пережил бы такое ощущение в городе, и не встречал описаний такого переживания. В храме — да, но это интерьер. А на улице — нет.
Город не схож с раем. По большому счету все мировые религии — христианство, ислам, буддизм — являются городскими, если не в первый момент откровения, то очень быстро после него, поскольку скорость их распространения не оставляет места для предположения о сельском или кочевом образе жизни. Но только у христиан Царствие Небесное — это город, и только в Откровении Иоанна. С этим, кстати, связано, я думаю, то, что только у христиан есть долгая традиция проектирования идеального города — мы не знаем ни мусульманских, ни буддийских проектов идеальных городов, потому что чего же их проектировать, если на небесах городов нет.
Но и христианский Град Небесный — это очень странный город, да и вообще вряд ли это город. Хотя Блаженный Августин подробно его проанализировал, но он стоял на позициях, которые стали называть современными социологическими — вроде Джейн Джекобс или Свята Мурунова. А именно, что город — это не здания, а сообщество жителей, civitas. Что же касается первоначального откровения Иоанна, то оно загадочно. "И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. <...> Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов <...> Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. <...> Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. <...> Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов". (Апок. 21:2,12,21,25; 22:1,2).
Конечно, он видел город лишь фрагментарно, но все равно. Тут есть улицы (скорее даже набережные, потому что улицы идут по обе стороны реки), но нет домов. Есть золото, которое не только прозрачно, как стекло (этот парадоксальный образ сильно повлиял на европейскую мечту построить стеклянные дома, сияющие изнутри), но и еще непонятно где находится, а строений нет. Вместо них — древо жизни. Кажется, что это все же райский сад, который воспринял некоторые внешние городские черты (главным образом стены), но скорее для декорации (зачем стены, если врата всегда открыты?), а в основе садом и остался.
Город и Небо — это морфологически несопоставимые объекты. Улицы, переулки, кварталы, дворы, площади города не могут являться образами улиц, переулков, кварталов, дворов и площадей Града Небесного, потому что на небесах ничего этого нет. Это ужасно жалко и многое объясняет в городской культуре с точки зрения ощущения богооставленности или даже переживания города как ада. В аду, кстати, город, скорее всего, есть. Вернее, там имеется промзона, где горит адский огонь.
Небеса же накрывают город как полог, прикрепленный лишь в некоторых местах. Физика и метафизика — это две разные ткани, которые сшиты точечными проколами. Обнаружение этих точек и есть религиозное переживание города. Как их найти?
Исторически в этом нет необходимости, потому что они все уже нашлись. Есть целая традиция в урбанистике, восходящая к Льюису Мамфорду, где считается, что именно святилище создает город: без него, как пишет Мамфорд, город являлся бы бессмысленной горой камней. О святилищах нам все объяснил Мирча Элиаде. Они возникают там, где Бог являлся людям (это называется иерофанией). В надежде повторить это или пройти к нему в оставленную дверь, люди отмечают места, где это произошло, храмами, возносят там молитвы и пытаются воспроизвести обстоятельства иерофании ритуалами.
При этом Христос, кажется, единственный, кто являлся горожанам, и это кончилось плохо. Все остальные случаи иерофании — негородские; там, где они происходили, города могли появиться впоследствии, но в момент, когда они посещали реальность, ничего городского в ней не было. Святилища древнее города, они относятся к незапамятным временам и переходят от эпохи к эпохе.
В качестве примера — одна из главных мусульманских святынь, мечеть Омейядов в Дамаске. Она возведена в правление аль-Валида I ибн Абдул-Малика в начале VIII века. Она перестроена из одной из древнейших христианских базилик, храма Иоанна Крестителя в Дамаске, заложенного императором Феодосием в конце IV века. Феодосий получил имя Великого от христиан за довольно сомнительные действия в отношении римской языческой культуры. В Дамаске решение о строительстве храма было связано с разрушением храма Юпитера на том же месте. Храм Юпитера приобрел окончательный вид во II веке (его колонны вошли в состав базилики Феодосия), но и он был выстроен на месте арамейского святилища Хадада (IX в. до н. э.). Исходя из идеи иерофании, святилища — будь то неясный арамейский храм, античный периптер, христианский храм на их месте или мечеть на месте христианского храма — являются своеобразной герменевтикой места. Само место неизменно, борьба идет за поиск наиболее адекватного истолкования того, что произошло, и за приобщение людей к этому событию.
Однако города в силу разных причин могли пропустить какое-то важное место или забыть о нем. Секуляризованная культура, носителями которой мы являемся, не слишком уважает практики традиционного институционализированного обращения к высшему, которые достались ей в наследство, но все время озабочена тем, не пропустила ли она каких-то важных мест, через которые туда можно было бы обратиться. Бог умер, но мы о нем помним.
Где сегодня мы подозреваем наличие этих мест сшивки физической ткани города и его метафизического горизонта? Я бы назвал такое место сакральной городской аномалией — это субститут святилища в секулярном городе. Хотя, казалось бы, этих аномалий может быть бесконечное количество, на самом деле они сводятся к трем типам. Три области прорывают сегодняшнюю городскую повседневность: природа, искусство и история.
Природа — отдельная тема (хотя вряд ли кто-нибудь будет спорить, что экологическое сознание является вариантом религиозного), а вот с историей и искусством ситуация складывается достаточно драматично. Идея о том, что посредством искусства можно добраться до высших сфер, восходит к концепции художника как гения трансценденции. Благодаря особым отношениям с небесами он может создать некий шедевр архитектуры или скульптуры, и в том месте, где это произойдет, возникнет новая точка сшивки физики с метафизикой.
Это недавняя идея — она возникла в культуре и философии романтизма, так что ей не больше 200 лет. Основная ее проблема в том, что художники слишком часто создавали произведения, которые не выполняли этой функции вообще или выводили не к тем небесам. Я долгое время работал в качестве архитектурного критика — и могу засвидетельствовать: рано или поздно любое здание, построенное с претензией на художественное качество, обязательно попадало в рейтинг самых уродливых зданий Москвы, которые необходимо снести. О скульптуре я уже не говорю — постановка любого памятнике в Москве вызывала и вызывает такую бурю общественного возмущения, что совершенно непонятно, какого эффекта хотят добиться те, кто его ставят. Возможно, художественное качество играет тут определенную роль, но нельзя не заметить, что возмущение непропорционально степени эстетической требовательности горожан, какую мы можем наблюдать в иных сферах (кино, визуальные искусства, литература, музыка, мода и т. д.). Скорее тут реакция на кощунство, на попытку навязать ложный, альтернативный, фальшивый метафизический горизонт.
История же с точки зрения сегодняшнего сознания априорно представляет подлинный путь к истинному смыслу (что, возможно, связано с кризисом идеи будущего). Не то что любой артефакт прошлого, будь то храм, памятник гражданской архитектуры, случайно сохранившийся дровяной сарай или каменная кладка в археологическом состоянии, обязательно соответствует сакральным местам в городе, хотя с точки зрения религиозного сознания можно счесть, что сам факт их сохранности во времени не случаен и соответствует некой высшей истине.
Но помимо этого здесь действует логика руины. Город прошлого не был сплошь сакральным — но он уже прошел, отправился в лучший из миров. Исторические фрагменты в любом случае разрывают повседневность за счет проявления этого несуществующего. Кроме того, руина так устроена, что, глядя на нее, мы достраиваем тот целостный образ, остатками которого она является. Руина — эта метафизическая машинка, она порождает рядом с реальным городом некий образ, мыслительную конструкцию города воображаемого, который уже в силу своей миражной природы кажется куда более идеальным, чем существующее положение. И хотя относительно прошлого возникают бесчисленные споры, все согласны по крайней мере в том, что оно было. Тут нет сомнений в подлинности. Это делает из исторических фрагментов самый общедоступный институт сакрального в городе, своего рода сакральное общее место, настолько же пронзительное и неповторимое, насколько бывают любые общие места. Их яростная защита от кощунников — настоящее духовное наслаждение.
 Четыре касты
Четыре касты

Питер Брейгель Старший. «Фламандские пословицы», 1559 год
Есть классическая проблема истории градостроительства — кто создает город?
Отец российской урбанистики Вячеслав Глазычев пишет: "Существует устойчивое представление об историческом происхождении города от разрастающегося села. Это заблуждение. Даже в тех случаях, когда город возникал на месте удачно расположенной деревни или усадьбы, как это было с Москвой, это издревле был хорошо планируемый процесс, осуществлявшийся властью". С его точки зрения, основателем города является власть. Для России это взгляд само собой разумеющийся — большинство российских городов возникали как административные центры.
Но вместе с тем.
Макс Вебер в своей книге "Город" доказывает, что город не создается властью, а, напротив, противостоит ей. Город образуется из рынка, рынок является его центральным элементом. Город — это инструмент обмена. Той же идеи придерживалась и Джейн Джекобс, страстный проповедник рыночной, а не административной природы города. Джейн Джекобс — самый симпатичный урбанист всех времен и народов, и спорить с ней бессмысленно.
Но вместе с тем.
Льюис Мамфорд, историк, философ, социолог, один из основателей урбанистики как науки, решительно не соглашался со всем, изложенным выше. По его мнению, основанием города является Святилище. Мамфорд считает, что основная функция города — хранение и передача культурной информации, это инструмент воспитания цивилизацией, а функции архива и обучения — это функции святилища. Храмовые центры как основание города мы встречаем на всем протяжении истории — от Вавилона до Средневековья, и лишь Новое время отказалось от этой идеи. Кстати, удивительно, что Вебер, прославившийся открытием связи между типом хозяйства и религией, в своей книге о городе не упоминает Собор. Я не могу это объяснить иначе как религиозной тенденциозностью — не заметить Собора в средневековом городе трудно. Но у него с духом капитализма была связана протестантская этика, религиозные институты католиков не были ему так интересны.
Но вместе с тем.
Нельзя забывать, что есть классическая марксистская точка зрения на происхождение городов. С точки зрения Маркса, разделение труда и возникновение класса рабочих (ремесленников) и торговцев, не связанных с сельскохозяйственным трудом, есть необходимое условие возникновения города в любую эпоху. Эту точку зрения развивает автор термина "урбанистическая революция" (возникновение городов) Гордон Чайлд, он подробно прослеживает процесс возникновения отдельной группы ремесленников в неолитической деревне, потом отделение ремесленного и земледельческого труда от торговли и, соответственно, возникновение города в конце неолита.
Так все же кто создает город? Власть? Рынок? Церковь? Рабочие?
У нас был замечательный историк, философ, социолог и футуролог Игорь Васильевич Бестужев-Лада, он из породы послевоенных гениев, которые создали советскую науку и философию. В 70-е годы он для нового Генерального плана Москвы делал социологическую модель городского сообщества. Я позволю себе привести цитату из его интервью.
"Тогда все трудоспособное население города очень четко делилось на четыре примерно равные группы. Первая — чиновники и их обслуга. Вторая — наука, культура, в целом интеллигенция. Третья — рабочие. Четвертая — сфера обслуживания. Огромную надежду партийные деятели возлагали как раз на вторую группу, интеллигенцию. Рассчитывали, что именно благодаря ей Москва (а затем и страна) сможет плавно войти в постиндустриальный мир. Но исследования нашего института показали, кроме того, что 80% ученых были заняты в ВПК, еще 12% — в идеологическом обслуживании власти (марксизм-ленинизм и прочая псевдофилософия), и только 8% занимались реальной наукой. От 60 до 90% ученых (в зависимости от отраслей) вообще были не способны участвовать в научном процессе. То есть это был балласт, который затем, кстати, и стал основой перестроечных процессов. И эта группа постоянно накачивалась детьми рабочих или выходцами из провинции (как и категория начальников). В результате в среде рабочих образовался страшный дефицит рабочих рук, и с начала 70-х годов было принято решение устроить так называемый лимит, который для Москвы составлял 80-100 тыс. человек в год. Таким образом, к началу 90-х в Москву прибыло около 2 млн лимитчиков. К чиновникам, милиции и прочей обслуге власти ежегодно прибавлялось 12-14 тыс., по своим интеллектуальным качествам они мало отличались от лимитчиков. Ни о каком вхождении Москвы в постиндустриальный мир уже не было и речи".
Вопреки ожиданиям, мне интересен не столько его прогноз о том, что Москва не сможет стать постиндустриальным городом (с этим я не согласен — уже стала, хотя и не очень успешным), сколько сам принцип его анализа. Заметьте: это простой эмпирический анализ. Бестужев-Лада не подходит к множеству жителей Москвы с какой-то социологической моделью — не делит население по половозрастной пирамиде или экономическому профилю, не использует ни одного принятого в любой статье "Население" шаблона описания. Он не говорит, что в Москве было столько-то молодежи, пенсионеров, людей с высоким уровнем доходов, мужчин, детей. Он нестрого, импрессионистически обрисовывает, кто чем занимался.
И у него появляются четыре группы населения. Люди власти, интеллигенция, то, что он назвал сферой обслуживания (это, в принципе, торговля), и, наконец, рабочие. Но это ровно те, кого разные исследователи считают основателями городов.
Не знаю, представлял ли себе Игорь Васильевич, на что он опирается в своем анализе, но это изумительно.
Индуистские Веды являются древнейшим письменным памятником человечества. Ригведа, в частности, датируется XVII-XI вв. до н. э. Это сборник религиозных гимнов. Десятый раздел посвящен сотворению мира из тела Пуруши (Пуруша-Сукта). В соответствии с представлениями индуизма, мир первоначально представлял собой одно антропоморфное существо, гиганта Пурушу, который принес себя в жертву и был расчленен Вишну таким образом, что из него возникла вся живая и неживая материя. В частности, люди были нарезаны Вишну из четырех разных частей Пуруши, образовав четыре группы. Соответствующий фрагмент гимна звучит следующим образом:
"Когда разделили Пурушу, на сколько частей он был разделен? / Чем стали уста его, чем руки, чем бедра, ноги? / Брахманом стали его уста, руки — кшатрием, / Его бедра стали вайшьей, из ног возник шудра".
Таким образом, четыре основные касты (правильнее их называть "варны") — это брахманы (жрецы, философы), кшатрии (воины, светские правители) вайшьи (торговцы) и шудры (рабочие).
И мы можем проследить эти четыре группы на всем протяжении существования городской цивилизации. В Москве ХХ века они вычленяются так же легко, как в Лондоне XVIII, в картинках Хогарта, Нидерландах XVI века, в картинах Брейгеля, в римском скульптурном портрете — где угодно. Они столь привычны, что им даже трудно удивиться. Но на самом деле это более чем изумительно: оказывается, горожане делятся на четыре типа так же устойчиво, как, скажем, люди — на мужчин и женщин.
Если принять идеи великого французского мифолога Жоржа Дюмезиля, три касты из четырех определяют индоевропейскую цивилизацию. Пантеон индоевропейцев типологически одинаков в древнеиндийской, скандинавской и греко-римской мифологии. Его ядро — это три божества: Верховный Судия, Верховный Воин и Бог Плодородия. За ними стоят три касты — жрецы, воины и земледельцы. Более или менее понятно, почему нет ремесленников: индоевропейский пантеон — это догородская цивилизация. Кстати, мне кажется, из-за этого обстоятельства рабочие не имеют своего божественного покровителя, чем во многом определяется их поведение в городе.
Для современной урбанистики чрезвычайно важна тема сообществ — их изучают, описывают, воспитывают, вовлекают и т. д. Это увлекательный процесс, но здесь есть два вопроса. Один в том, делятся ли все горожане на сообщества без остатка или есть такие, которые не принадлежат ни одному сообществу. Покамест байкеры, любители кактусов, болельщики, меньшинства, велосипедисты и прочие охватывают не больше 3% городского населения, а остальные ни к каким сообществам не приписываются. Второй — в том, чтобы определить, как ценности сообществ влияют на городскую среду. Если с велосипедистами все более или менее понятно, то остальные никак не заявляют свои ценности в городских пространствах.
Мне кажется, продуктивнее считать, что в городе живут не сообщества по интересам и даже не территориальные сообщества (соседи попросту не знают друг друга), а именно профессиональные сообщества. У них есть общие ценности, общая повестка дня. Например, если умер какой-нибудь филолог, то филологи узнают об этом раньше экономистов, а милиционеры могут вообще не узнать. И все эти профессиональные группы сводятся, на мой взгляд, к четырем кастам, как у Бестужева-Лады.
Зачем искать, какая именно группа из четырех основывает город? Не правильнее ли считать, что город появляется тогда, когда встречаются все четыре? Город — это конкуренция и обмен между четырьмя группами ценностей. Улица, дом, площадь, парк, бульвар, квартал, памятник, школа и т. д.— это поле конкуренции. Каждая из групп хочет переформатировать ее по-своему. Группы вступают в альянсы или ведут бесконечную борьбу, торгующих изгоняют из храма и от станций метро, жрецы дискредитируют власть, которая пытается вырастить себе новых жрецов, рабочие перестраивают мир, жрецы пытаются восстановить его первоначальный облик — это все бесконечно интересно. Но мне кажется, чтобы понимать суть происходящего, нужно очертить каждую из групп ценностей. Что я и сделаю в ближайших текстах этого проекта.
 Рабочие
Рабочие
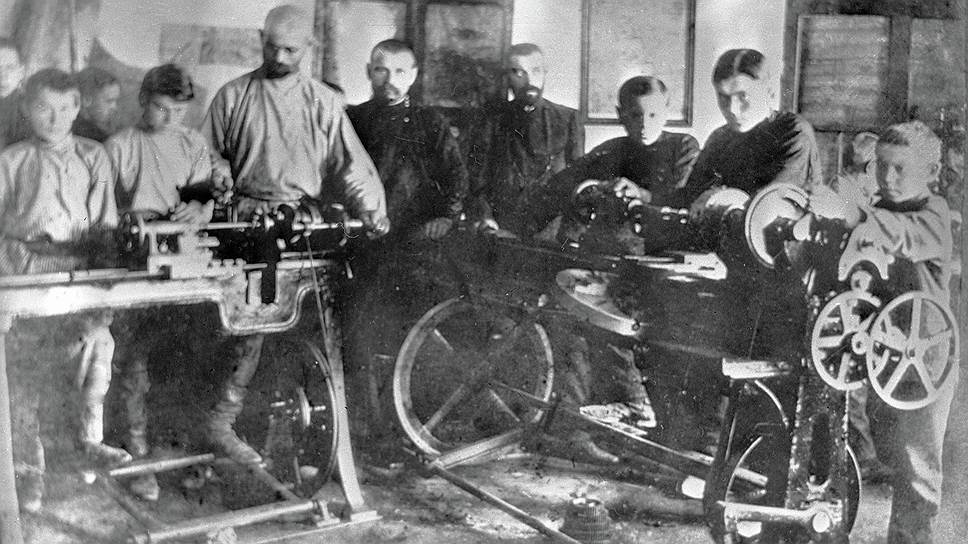
Рабочие железнодорожного цеха Енакиевского металлургического завода, 1911 год
Фото: РИА Новости
Время от времени защитники исторического наследия пытаются сохранить рабочие кварталы 1920-х. Это не то чтобы невозможно, но трудно. Качество жилья спорно, качество строительства оставляет желать лучшего, остаются качества проекта. Тут есть что сказать в пользу сохранения. Но что интересно: никому не приходит в голову доказывать их ценность с позиций бессмертной истории рабочих, их быта, их повседневности. Качества дизайна — да, история жизни — нет. Мы сохраняем исторические магазины, древние храмы, дворцы — но не рабочие кварталы.
То же касается и фабрик. Фабрики — это что-то среднее между зданиями и станками, и даже больше сдвинуты в сторону станков, инструментов. Как инструмент они теряют ценность после того, как производство устарело. Конечно, если на фасаде есть элементы неорусского стиля или неоготики, их можно защищать, но обычно промзоны с устаревшим производством превращаются в городские свалки, с которыми никто не знает, что делать, пока не придет время зачистить территорию и построить все с нуля.
Как выглядит город рабочих в истории? Это удивительно, но никак. Город прячет рабочих. Если мы имеем дело с традиционным европейским городом, то мастерские располагаются на задах длинных участков, а на улицу они выходят лавками — торговлей. Если с традиционным восточным городом, то это базар, где ремесленники прячутся в глубине кварталов, окруженных лавками со всех сторон. Нам трудно сказать, как выглядели кварталы чомпи в ренессансной Флоренции, ремесленные кварталы средневекового Парижа, рабочие кварталы Лондона. Они не сохранились, их снесли, и на их месте выросли новые города. И само то, что они не сохранились — погибли в чуму, сгорели в Великом лондонском пожаре, снесены бароном Османом, мало ли что случалось,— указывает на то, что город не видел в них ценности. Их не защищали и не восстанавливали, это были внутренности, изнанка, исподнее города.
Здесь есть нечто общее с индустриальным домостроением. Ну вот пятиэтажки — их сносят так, будто их не было никогда. Не остается не только домов — даже их мест не остается. Меняется сетка улиц, тип дома, назначение территорий. Как будто это было пустое место и никто тут никогда не жил. А это и есть Москва заводов и фабрик, Москва, в которой половина населения была рабочими. Ее никому не жалко. Это индустриальный мусор, который зря занимает ценную территорию.
У рабочих нет прошлого. Такого, которое общество ценило бы и сохраняло. Их следы выветриваются.
Кстати, о рабочем Лондоне как раз мы можем составить более или менее определенное представление — скажем, по гравюрам Уильяма Хогарта. Это, конечно, тенденциозная просвещенческая сатира, но тем не менее. "Переулок джина", "улица пива" и т.д.— кварталы Ист-Энда, мир драк, пьянства, проституции, воровства — жуткие места. А кроме изображений есть еще литература. Лондон Диккенса, Париж Гюго. Петербург Крестовского. Рабочие слободки Горького — в "Матери", "Деле Артамоновых". Это не город, это ад.
Конечно, можно сказать, что к такому состоянию их привел капитализм, и писатели левых убеждений так и говорили. Собственно, сам переход к индустриальному домостроению, к "машине для жилья" Ле Корбюзье и жилищному строительству Хрущева был вызван желанием вывести рабочих из трущоб и бараков и создать им нормальные жизненные условия. Нельзя сказать, что это совсем не удалось. Но блочно-панельный город с одинаковыми параллелепипедами домов на бесконечном пустыре микрорайона — это какой-то склад человеческих жизней, и когда бредешь через него зимой, кажется, что это, конечно, не ад, но ад где-то недалеко.
Есть специальная иконография рабочего — что в фотографии ХХ века, что в живописи XVII-XIX. Это человек с фигурой, искореженной тяжелым трудом, ассиметричной и покалеченной, со следами какой-то пережитой катастрофы на лице, острым и враждебным взглядом — и вместе с тем производящий впечатление силы, ума, внутренней значительности. Это может быть грешник, отверженный, карбонарий — коннотации меняются в зависимости от времени, а образ остается. Вообще-то, что кузнец или мельник находятся в тесных отношениях с чертом — это очень архаическая идея. Те же гравюры Хогарта вырастают из ранней протестантской гравюры, это массовый материал, бичующий греховность человеческой природы, и почти всегда место действия — это трактиры, лавки и мастерские, тот же низший город. Это образная традиция, выросшая из живописи Северного Ренессанса, из Брейгеля и Босха, где мир порока и грехопадения или просто ад не только что постоянно изображается, но и постоянно имеется в виду.
У рабочих нет прошлого, а их настоящее периодически граничит с адом.
Отчасти благодаря Марксу, отчасти благодаря истории СССР мы под словом "рабочие" имеем в виду пролетариат после промышленной революции. Индустриальный город — это, разумеется, самый яркий на сегодняшний день эпизод выхода рабочих на городскую сцену. Но это не вполне годится для понимания ценностей рабочих в социальном организме города. Вряд ли разумно считать, что до промышленной революции рабочих в городе не было. Я думаю, что городской социум делится на четыре касты: кшатрии (власть), брахманы (жрецы), вайшьи (торговцы) и шудры (рабочие) — об этом был мой предыдущий очерк. Но, конечно, отождествлять шудр и индустриальных рабочих невозможно. Кузнецы, жестянщики, гончары, бондари, стекольщики, ткачи, портные, кожемяки, сапожники, каменщики, столяры, печники, пекари, мельники, резники, мусорщики, золотари, гробовщики — им нет числа, и большинство этих рабочих существовали в городе с того момента, как он появился, а не с того момента, как появилось индустриальное производство. При этом границы группы "шудр" иные, чем привычно нам: они шире.
"Конечно, художник другой эпохи будет обижен, если вы назовете его искусство ремеслом,— пишет А.Ф. Лосев.— "Я не ремесленник, я художник",— скажет он. А грек гордился тем, что он ремесленник! <...> "Техне" — это, во-первых, ремесло, во-вторых, искусство и, в-третьих, наука. Получается, что грек не отличает ремесла и искусства от науки? Да, потому что науку он понимает практически. Конечно, чистое умозрение возможно, но это — абстракция. Реальная наука не есть чистое умозрение, это всегда практика. Поэтому научная "техне" недалеко ушла от ремесленной или от художественной "техне"" ("Двенадцать тезисов об античной культуре").
Как это свойственно поздним работам Лосева, суждение модернизировано из желания выказать себя марксистом (он несколько неловко прислоняется к тезису Маркса "практика — критерий истины"). Но само по себе сближение ремесла, искусства и не вполне понятной "науки" мне кажется знаменательным. Аристотель в "Никомаховой этике" разделил два типа знания: "технэ" и "эпистеме". Эпистеме — это раскрытие законов мироздания, то, как устроено уже существующее. Технэ — это создание того, чего не было. Это совсем разные "науки".
Шудры — это технэ, они создают то, чего нет. И я думаю, что определять "рабочих" нужно именно в этой логике. Можно напомнить, что средневековая мастерская алхимика мало отличается от мастерской ювелира или кузнеца. Можно напомнить, что не только кузнец близок к дьяволу, но и Фауст. И когда вы читаете теорию креативного класса Ричарда Флориды, который доказывает, что этот класс свободен от собственности, живет только своим трудом, является объектом эксплуатации капитала и т.д., вы быстро обнаруживаете, что это просто субститут пролетариата в постиндустриальном обществе.
Напомню идею Жоржа Дюмезиля о верховных богах индоевропейцев. Он показал, что у трех групп в индоевропейском пантеоне есть небесные покровители: Верховный Властитель у власти, Верховный Жрец у брахманов и бог обмена у торговцев. Но у рабочих верховного божества нет, отчасти потому, что индоевропейский пантеон сложился задолго до образования городов и появления отдельной группы рабочих. Для всех остальных мир уже готов — и даже до известной степени прекрасен. Но не для них: они не вписаны в изначальную структуру мироздания.
У них нет места, нет покровителя. Наличное положение дел их не устраивает, в существующем мире все время проступают черты ада. Но они умеют создавать то, чего не было. Платон полагал, что каждой вещи соответствует замысел о ней, ее идея, эйдос. Эйдос прекрасной женщины можно себе представить, но невозможно представить себе эйдос стиральной машины. Рабочие создают то, что отсутствовало в первоначальном замысле о мире. Поэтому они богоборцы, поэтому близки дьяволу. И поэтому они занимаются созданием нового мира.
Я думаю, что именно этот отчетливо эсхатологический смысл вкладывал Маркс в свою формулу пролетариата. "Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир".
Торговцы двигаются к более совершенному состоянию путем обмена, жрецы — путем соотнесения реальности с высшим миром, а власть — путем формирования должного положения дел из наличного хаоса. Рабочие производят новый мир как на заводе, технология для них большая ценность, чем произведение. Поэтому их ценностью оказывается стандарт, типовое изделие, то, что можно тиражировать. Для города в его физическом измерении это так же важно, как уникальное и неповторимое. Но куда важнее рабочие для города как сообщество. Ценность власти — первенство, ценность жрецов — уникальность, ценность торговцев — различия. Ценность рабочих — равенство. Равные могут создавать мир с начала.
Время рабочих — будущее. Это не значит, что будущее им принадлежит, как полагал Маркс. Когда будущее наступает, его может освоить кто-то другой. Это значит, что будущее — это их ценность. И если они исчезают, то будущее становится продленным настоящим. То есть отсутствует.
 Торговцы
Торговцы

Универмаг Galeries Lafayette в Берлине
Фото: GETTY IMAGES
Сегодня урбанистика ценностью города полагает его разнообразие. Чем больше в нем не похожих друг на друга зданий, сред, сообществ, чем больше он создает впечатлений, тем лучше. Но не всегда так бывает, что именно это ценится. Скажем, российские императоры ценили в своей столице пышное великолепие во дворцах и приятное единообразие во всем остальном. То же сдержанное единообразие ценилось в советских индустриальных городах.
Искусство торговли — это работа с контекстами, потому что одна и та же вещь в разных контекстах имеет разную ценность. Место в городе — это история, которую продавец рассказывает про свой товар. Поэтому сегодняшний постиндустриальный город — это город ценностей, выросших из обмена.
Знаете, что такое торговый центр? Это результат индустриальной революции в торговле, когда лавочки (аналоги мастерских у ремесленников) превратились в заводы торговли, где все стандартизировано, автоматизировано и эффективно. Поэтому они прекрасно работают в среде массового индустриального домостроения. Для торговцев ценно все — и спальные районы (где гипермаркеты), и исторические улицы (где живут бутики), и транспортные узлы (где большой поток людей и торговые центры), и тихие переулки (где антикварный магазин, куда заходят по звонку, но уж как зайдут — окупят его существование на год вперед). А уж как ценны для торговли различия между районами! А между городами! А между странами! Чем больше разнообразие, тем интереснее обмен.
В России проявление ценностей торговцев в городе вызывает ощущение неясной опасности. Помните, как забулькало кругом, когда под Новый год на Красной площади поставили чемодан Louis Vuitton? А изгнание торгующих из города, которое произвел Сергей Собянин в "ночь длинных ковшей"?
Российский город по преимуществу — это или административная единица с гарнизоном, или завод. 312 городов России, то есть больше четверти существующих (их 1112), имеют официальный статус моногорода, а большинство остальных — индустриальные города, что почти то же самое. В принципе это означает, что в городе есть одно крупное производство, а жители делятся на тех, кто там работает, и тех, кто обслуживает тех, кто там работает. В реальности моногорода бывают разные, например, даже с двумя связанными между собой крупными производствами. Иногда там один центр, вокруг заводоуправления, а иногда и второй, у бывшего райкома. Много, одним словом, отличий. Но есть общая черта — там нет рыночной площади. Они были так придуманы, что там не торговля, а снабжение, и оно осуществляется по нормативам, через ларек, а не на рынке у торговцев.
Понятно, в чем торговая опасность. Например, вот мы, скажем, едины. Один государь, общие враги, мы все как один. Это любимый идеал власти. Но если все как один, то чем меняться? Никакой торговли, одно снабжение, если проголодался. Мало этого. Торговцы ценят все, но все оценивают неправильно. Христос тоже, как Сергей Семенович, изгнал торгующих (правда, он из Храма, а Сергей Семенович — от метро), и причина у них была общая: торговцы меняли сакральное на профанное. И продолжают. Например, книга Владимира Мединского "Мифы о России" продается на ozon.ru за 160 руб., то есть как два пакета ряженки. Это оскорбительно.
Остальные городские касты создают образ идеального города. Власть его формирует насилием над существующим положением дел, рабочие производят с помощью инструментов и технологий, жрецы находят мистическую связь между градом земным и небесным и показывают путь туда. А торговцы ничего не создают — они предлагают вам купить ваш идеал. Вряд ли вы уж выдумаете чего-то, чего нигде нет, а если выдумаете — это не на вас рассчитано. Вам кажется, что идеальный город — это драйв, высокие технологии и полет в небо? Отлично, могу предложить построить среду Гонконга, $5-7 тыс. за 1 кв. м, от $250 день проживания. Потрясающее переживание, небоскребы поют и танцуют как на дискотеке. Хотите тише? Есть Сингапур в ту же цену. Вам важна соразмерность человеку, память о прошлом, легкое дуновение божественной гармонии? Северная Италия, $3-5 тыс. за 1 кв. м, от $200 день проживания.
Мало этого, они могут и перепродать ваш идеал, если он вам разонравился или деньги нужны. Они на все глядят со стороны, это необходимо для внешней оценки — и поэтому они всем чужие. Отсюда то, что на исполнение ролей торговцев часто идут люди не местные — цыгане, евреи, армяне, китайцы. У них нет ничего подлинного, ведь одно подлинное можно поменять на десять подделок и сильно выгадать. У них нет ничего святого, потому что одно святое стоит как другое или полтора других. И на всем они имеют свою выгоду. Покровители торговцев — это трикстеры (как Гермес или Локи), божества лживые, озорные и двуличные.
Но у торговцев есть свой идеал, и он для России очень чужой и отрицательный.
Во времена моего детства задачей считалось кем-то стать, жизнь даже представлялась забегом на тему, кто станет быстрее. На этом основан феномен вундеркиндов: мальчику девять лет, а он уже выучил что-то взрослое. Если к 25 не состоялся — иди в алкоголики. Женщинам требовалось к этому возрасту выйти замуж и родить.
Сегодня это не очень популярная идея. Наоборот, если женщина 40 лет, фармацевт с MBA по экономике, решила стать художником, поступила на 1-й курс в чужой город, жить там не собирается, не замужем и не собирается, вообще планы неопределенные — это самый лучший человек. В США и Европе художественные институты наполнены такими первокурсницами. Идея, что надо кем-то стать, заменилась на то, что надо оставаться никем, потому что твоя жизнь — это валюта, и самое лучшее — это ее не тратить, чтобы иметь возможность стать кем угодно.
И город ценится за то, что он предоставляет тебе способы оставаться в состоянии выбора. Утром ты теннисист, днем юрист, ранним вечером монгольский мистик, вечером гитарист, по субботам учишься на летчика. В деревне так не поживешь.
Человеку свойственно стремление к социальности, но касты предлагают ему общаться с социумом по принципу принадлежности. Поэтому они строят стены, внутри которых ты чувствуешь себя безопасно, если разделяешь принятые там цели и ценности. Торговцы общаются по принципу обмена, они никому не принадлежат. Их идеал — открытость, прозрачность, и первое, чем они проявляют себя в городе,— это витрина. Ты можешь воспринимать что угодно, не принадлежа ничему. Город торговцев — это город со стороны, город наблюдателей, фланеров, посторонних. Город авантюрного романа, частного человека, детектива. Город одиночества, в котором оно полагается идеальным состоянием.
Вообще свобода — это сложная вещь, ей надо учиться всю жизнь, там масса подводных камней и парадоксов. Но элементарный уровень свободы, тот, что воспитывается сам собой, просто как жизненный навык,— это свобода выбирать. Свобода как познанная необходимость — это как раз у жрецов и власти. А город торговцев — это такой, в котором ты выбираешь, какие тебе нравятся штаны, профессия, общество. А кто-то получает от этого выгоду. И поэтому заинтересован, чтобы ты мог выбирать и дальше.
 Власть
Власть

Здание МИД на Смоленской площади, Москва
Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ
Английское city, как и французское cite, происходит от латинского civitas. То есть город для них — прежде всего "общество". В русском "городе" важнее наличие не горожан, а ограждения. Для европейских языков огораживание тоже важно, но корень убежал в другое семантическое поле - родственным русскому "городу" является английское garden или немецкое Garten — "сад". Так что русские города с европейской точки зрения — это как бы сады. Может, поэтому они такие разлапистые.
Впрочем, английский town происходит от кельтского dunum ("укрепленное место"), откуда немецкое Zaun ("забор") или русский "тын". Исторически огражденность — стены — является главным признаком города как такового. В этом смысле можно сказать, что города создаются властью. Стены — это власть, они бессмысленны без воинов.
Крепость — военная вещь, и есть длинная история крепостей, определяемая эволюцией военного дела. Однако смыслы крепости почти не меняются — и они позволяют понять миф власти в городе.
Есть три ритуала крепости — стены, ворота и башни,— и, забегая вперед, скажу, что они сильно переживают крепость как таковую. Я уже писал здесь, что здания власти трудно отличить от тех, что к ней не относятся: министерство похоже на банк, офис или институт. Но все же есть особенности. Во-первых, непроницаемая стена: власть не любит витрин. Во-вторых, сложно устроенный вход, скорее даже проход, где вас контролируют в начале, и в конце, и по пути тоже. И наконец, специальное приспособление для осмотра входящих — площадка, иногда внутри здания, иногда перед ним. Но наблюдатель как-то скрыт.
Стена. Это выражение деления мира на свое и чужое. Разделение "свой-чужой" — это первичное разделение для человека как стадного животного, но в городе этот навык становится занятием власти. И людей делят не один раз. Только ранние родовые крепости (как Тиринф или Микены) и крепости античных городов-республик имеют один пояс стен. Иерархизированные общества строят крепости по принципу концентрических колец, где "более свои" выделяются из множества "своих вообще" вписанными друг в друга двумя и даже тремя линиями стен.
Ворота. Задача крепости не сводится к разделению на своих и чужих, тут важны правила перехода. Кстати, с точки зрения обороны ворота вызывают определенные сомнения. Они могут быть сложными — с воротной башней и контрбашней, подъемным мостом, "волчьей ямой", цвингером или захабом,— но они всегда видны. Конечно, есть выгоды в том, чтобы стянуть противника к одной точке, где его можно встретить во всеоружии, заранее приготовившись к обороне. Но, с другой стороны, при всех ухищрениях крепости (до возникновения артиллерии) чаще всего брали именно через ворота. Не вполне понятно, в чем смысл стратегии, которая подразумевает честную демонстрацию противнику самого уязвимого места.
Символическое значение ворот при этом совершенно очевидно. Римский ритуал возвращения победивших войск в город предполагал, что воины остаются вне города (на Марсовом поле), чтобы очиститься от мерзости насилия, потом проходят через врата (триумфальную арку) — и только после этого могут войти. То есть перед нами ритуал очищения. Его экономический аналог — налоговый сбор (налоговое очищение товара), юридический — пропуск, признание права на нахождение внутри города. Чистят разными средствами, а смысл один. За стеной — чужие, их почистили, они стали своими.
И башня. Это прежде всего инструмент для наблюдения. И если представить себе грандиозные усилия, необходимые для их возведения, то становится ясно, насколько наблюдаемость, зримость важна для власти.
Мишель Фуко подробно описал этот эффект применительно к другой ситуации — ситуации тюрьмы. Его усилиями Иеремия Бентам, просветитель и либерал, превратился в главного надсмотрщика всех времен и народов, что несправедливо. Но вместо долгого рассказа о связи власти и зрения достаточно процитировать принадлежащее Фуко описание Паноптикона — придуманного Бентамом здания тюрьмы. "По периметру — здание в форме кольца. В центре — башня. <...> Основная цель паноптикона: привести заключенного в состояние сознаваемой и постоянной видимости, которая обеспечивает автоматическое функционирование власти. <...> Бентам сформулировал принцип, согласно которому власть должна быть видимой и недоступной для проверки. Видимой: заключенный всегда должен иметь перед глазами тень центральной башни, откуда за ним наблюдают. Недоступной для проверки: заключенный никогда не должен знать, наблюдают ли за ним в данный конкретной момент, но должен быть уверен, что такое наблюдение всегда возможно. <...> Человек в здании полностью видим, но сам никогда не видит; из центральной башни надзиратель видит все, но сам невидим. Паноптикон действует как своего рода лаборатория власти".
Кстати, Александр Эткинд во "Внутренней колонизации" говорит, что идея Паноптикона пришла Бентаму в голову во время его службы на Потемкина в России — как идеальное жилище для крепостных. В описании Фуко камера Бентама становится чем-то вроде прижимного стекла для микроскопа, тут важно превращение физического пространства в иное качество. Это умопостигаемое пространство. Оно становится таковым под взглядом власти.
Это сильно действует. На мой взгляд, лучший роман о природе власти — "1984" Джорджа Оруэлла. Там, если помните, город делится на новые высотные здания, в которых располагаются министерства и жилье для членов партии, и старый город, оставшиеся домики, дворики и сараи. В высотках совсем жесткий порядок, в останках старого города посвободнее, но с высоток на всех смотрят изображения Большого Брата, причем они так устроены, что его глаза — это одновременно камеры слежения за всеми и повсюду. Большой Брат видит тебя, Большой Брат заботится о тебе, Большой Брат помнит о тебе. Роман вышел в 1949 году и архитектурно был воплощен в течение следующих пяти лет в реальности Москвы. МИД, Котельническая набережная, Кудринская, Красные Ворота — эти высотки строились в старой Москве и оставляли вокруг старые переулки, где в исчезнувших теперь двориках старой Москвы в общих квартирах проживало поднадзорное население. Отсюда феномен "арбатства" — недозатравленных дворовых свободолюбцев, выросших в развалюхах в тени высотки МИДа. Как и у Оруэлла, свободомыслие завелось в гетто прошлого. Их ощущение города сильно передано у Бориса Слуцкого:
"Мы все ходили под богом. / У бога под самым боком. / Однажды я шел Арбатом, / Бог ехал в пяти машинах. / От страха почти горбата / В своих пальтишках мышиных / Рядом дрожала охрана. / Было поздно и рано. / Серело. Брезжило утро. / Он глянул жестоко, мудро / Своим всевидящим оком, / Всепроницающим взглядом".
Это око с всепроникающим взглядом и по сию пору является главным атрибутом власти, только оно стало механическим и больше не требует высоты. Но бесконечные камеры слежения, которыми наполнены сегодняшние города, которые, вполне по Фуко, то ли наблюдают, то ли нет, но могут наблюдать,— это, так сказать, зримое и очевидное присутствие власти в городе.
Говорить о ценностях власти можно долго, а о ее специфических ценностях трудно: как правило, она разделяет ценности жрецов, а иногда рабочих и торговцев. Но можно ставить вопрос не о природе, но о людях власти — воинах, судьях, бюрократах и т. д. и т. п. Есть ли у них общие ценности? По крайней мере одна есть — это признание ценности насилия. Конечно, ценности насилия могут разделять и другие. Но могут и не разделять. Мы легко представляем себе жреца или торговца, которые являются принципиальными противниками всякого насилия. Не признающего насилия офицера вообразить трудно.
Два слова о критике власти. Жан-Жак Руссо — основатель современной критики. Он бичевал все институты государства — законы, собственность, образование, культуру, науку, используя один сокрушающий прием: он апеллировал к человеку в естественном состоянии, к природе, где ничего подобного не встречается. И мы бичуем вслед за ним, обнаруживая противоестественность самых разных установлений. И везде, где мы сталкиваемся с противоестественностью, мы обнаруживаем домен власти. Образование и медицина, юриспруденция и наука, культура и искусство пронизаны властью в той степени, в какой они противоестественны, в какой отделяют человека от природы.
Наверное, самое ясное и эстетически совершенное архитектурное воплощение абсолютной власти — это Версаль. А самая яркая примета Версаля — это фонтаны. Фонтан — это вода, текущая вверх. Торжествующий манифест противоестественности.
Два слова о доблестях воина. Человек испытывает голод и нуждается в тепле. Воин терпит голод и холод, как будто их не существует. Человеку ведома усталость и необходим отдых. Воин не знает усталости и презирает отдых. Человек боится боли. Воин на боль не обращает внимания. Человек боится смерти. Воин смерти не боится.
Отсюда, вообще-то, следует, что воин — не человек. Но на самом деле имеется в виду — не естественное существо. Не животное. Власть — это удержание человека от естественного, удержания от редукции к животному. Удерживать нужно постоянно. Чужие пребывают — и их надо дрессировать, свои оскотиниваются — и их надо муштровать. Насилие нужно здесь и сейчас. Время власти — настоящее, и все ее ритуалы определяются тем, что ты здесь и сейчас побеждаешь животное начало в других (и в себе) и тем самым утверждаешь себя как человека.
Что такое животное и что нужно побеждать — это исторически подвижное дело. То, что раньше полагалось благородной доблестью — скажем, страстный патриотизм или традиционные ценности,— может оказаться дисквалифицирующим признаком. Но в этом случае ксенофобы или сексисты оказываются просто новыми чужими. Форма власти тут не важна, была бы какая-нибудь власть, а чужие всегда найдутся. Они всегда среди нас, но они не вполне люди — и к ним нужно применять насилие, чтобы привести их в человеческое состояние или же от них избавиться. Для этого нужны границы, правила перехода и надзор.
Отделяя своих от чужих, людей от нелюдей, разум от безумия, сознательное от бессознательного, власть получает исключительное конкурентное преимущество. Она может обратить процесс в свою пользу, более того, ровно это всегда и делает. Страж у границы естественного и противоестественного получает мзду за охрану и за транзит.
Однако нельзя не признать, что самая идея удержания человека на границе от животного имеет экзистенциальный смысл. Этот смысл и создает миф власти.
 Жрецы
Жрецы

Камень основания на Храмовой горе в Иерусалиме
У иудеев, христиан и мусульман Бог один и тот же — разногласия возникают в протоколах общения с Ним. Первым Он открылся евреям, и из-за этого их Храм в Иерусалиме имеет принципиальное значение для трех авраамических религий. В особенности — факт разрушения этого храма.
Великий раввин Моисей Маймонид говорит о Храме, что "Следующие вещи являются главными при постройке Храма: делают в нем Кодеш (Святилище) и Кодеш а-Кодашим (Святое Святых), и перед Святилищем должно быть помещение, которое называется Улам; и все вместе называется Хейхал. И возводят ограду вокруг Хейхала, на расстоянии не меньшем, чем то, что было в Скинии; и все, что внутри этой ограды, называется Азара (двор). Все же вместе называется Храм" (Маймонид, Мишне Тора, Законы Храма, 1:5).
Кодеш а-Кодашим — это место земного присутствия Бога. Сила Божья (Шехина) физически пребывала там. В 70 году Храм был уничтожен войсками Тита Флавия. Место земного пребывания Бога исчезло. Последствия не сразу были всеми осознаны, но со временем три религии сделали свои выводы из этого ужасного события.
Иудаизм — древнейшая авраамическая религия, однако та религия, которую мы называем иудаизмом сегодня, родилась из разрушения Храма. Это радикальнейшее переосмысление ветхозаветной религии, которое произошло позже явления Христа. Вывод, который сделали из разрушения иудеи, заключается в отказе от храма. После разрушения в физической реальности Бога нет, и пока Храм не восстановится, не будет. Единственная связь — через текст, Книгу. Текст становится магическим предметом — отсюда сакральное значение свитков Торы, мезуза (пергамент с текстом молитвы у входа в дом), тфилин (коробочки, содержащие пергаменты с отрывками из Торы, которые являются элементом молитвенного облачения), записки, которые вкладываются в Стену плача (хотя это — совсем поздняя традиция).
Синагога представляет собой модификацию храма без помещения, где пребывает Бог. Остальные части — и молитвенный зал, и притвор, и двор — имеются, а этого места — нет. Без него храм превращается из сакрального в общественное помещение.
Примерно в тот момент, в 70 году, когда войска Тита уничтожали Иерусалим, апостол Иоанн находился в ссылке на острове Патмос. Там ему открылась картина еще более ужасных разрушений, описание которой составило Апокалипсис. Но, помимо бедствий, он увидел и Небесный Иерусалим, где пребывает Господь в конце времен.
"И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба <...> Он имеет славу Божию <...> Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот <...> Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. <...> И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его..." (Откр. 21)
Христиане согласились с тем, что Бог пребывает на небесах, в Небесном Иерусалиме. Но небеса открываются и их можно узреть (а в конце времен увидят все). Соответственно, христианский храм представляет собой модификацию ветхозаветного, только вместо Святого Святых в алтаре начинается путь на небеса. В самом простом варианте — от Богоматери, находящейся в конхе апсиды, наверх, к куполу, где находится Христос.
Принципиальная схема мечети включает в себя двор, притвор, молитвенный зал — и все. Помещение, где пребывает слава Божия, отсутствует, как и в синагоге. Однако на стене молитвенного зала находится михраб, он обозначает киблу — направление, путь в Мекку, к Каабе. Это прямоугольное строение во дворе мечети аль-Харам, построенное Ибрахимом (Авраамом) непосредственно под руководством Бога. В основании — краеугольный камень, который передал Адаму архангел Гавриил, и над которым Адам соорудил полог, создав прообраз храма. Это, так сказать, Святая святых всех мечетей. В исламе получается множество молитвенных залов, соединенных с единственным пространством, где пребывает слава Божия. Но это помещение есть, и оно есть на земле, в физическом пространстве. Через него идет прямой путь к раю ("Ключи от Рая" — один из эпитетов Каабы).
Это — три приспособления для того, чтобы связываться с Богом. Все три авраамические религии — сугубо городские, так что устройство этих пространственных девайсов определяет организацию сакральности в городе.
В 1970-е годы, в эпоху "деревенщиков", модно было заниматься семиотикой народного жилища — славянского, бурятского, монгольского, калмыцкого и т. д. Знаки там повсюду — от конька кровли до красного угла. Коромысла, прялки, веялки — все символично, высшие силы на каждом шагу. Можно составлять бесконечные словари символов. В несколько полемическом разрезе к такому тезаурусному символизму Иосиф Бродский написал:
"В деревне Бог живет не по углам, / как думают насмешники, а всюду. / Он освящает кровлю и посуду / и честно двери делит пополам. / В деревне Он — в избытке. В чугуне / он варит по субботам чечевицу, / приплясывает сонно на огне, / подмигивает мне, как очевидцу".
Это достаточно архаическое представление о единстве мира Божьего и физического мира. Бог присутствует повсюду, связи с ним непосредственны, устойчивы и понятны. Невольно объединяясь с "насмешниками", я бы сказал, что в эту деревню не только не дошла страшная весть о разрушении храма, но здесь даже не вполне осведомлены о начале его строительства. Любой предмет, помещение, пища, огонь божественны в самом простом смысле — магичны. В них присутствует сила Бога, Шехина, которая не только не улетела в Град Небесный, но даже не выбрала себе определенную комнату для пребывания.
Но это бесконечно далеко от городского пространства. В городе существует единственная связь — через храм, и работает она плохо по сравнению с вот этим "подмигивает мне как очевидцу". Связь носит символический характер.
Среди специалистов по сакральной архитектуре нет более болезненной темы, чем символ. Шариф Шукуров, скажем, замечательнейший, на мой взгляд, современный исследователь исламской архитектуры, показывает, как семантика мечети восходит к первоначальной мечети Пророка в Медине, его дому, но вместе с тем — к Храму в Иерусалиме, но вместе с тем к раю как граду и раю как саду. Но при этом Шукуров постоянно подчеркивает, что это ни в коем случае не символы дома, храма и рая, а как бы они сами в прообразовательном смысле (то есть не символизирует рай, а им и является, отсылая однако же и к раю на небесах). Это трудно понять.
Ганс Зедльмайр, величайший историк искусства ХХ века, которому принадлежит самый глубокий анализ готической архитектуры, показывает, как готический собор связан с образом Небесного Иерусалима у Иоанна, и вот это "стена из ясписа, чистое золото, подобное чистому стеклу" — это стены храма, превратившиеся в витражи, прозрачные драгоценные каменья. Однако же он специально и настойчиво подчеркивает, что это никак не символы Града Небесного, но в некотором смысле его отпечатки, отображения (Abbild). "Этот "отобразительный" смысл, в отличие от символики <...> обладает формообразующей силой <...> Гештальт этих построек — рассмотренный чисто архитектонически — обладает чем-то фантастическим, иррациональным". Это тоже трудно понять.
Храм как устройство — это парадоксальный феномен незнакового обозначения. Я понимаю, насколько дико это звучит в семиотических терминах, но вряд ли уместно здесь излагать теорию знаков и пытаться вписать в нее такой тип значений. Тем не менее скажу, что:
— в обычных знаковых системах то, как знак выглядит, не связано с тем, что он значит. В сакральной архитектуре, напротив, форма является отображением смысла, метафорой смысла, интерпретирует смысл — всячески стремится явить собой смысл; она не может не иметь связи со смыслом;
— символы нельзя читать, и сама попытка так с ними поступать есть поведение предосудительное; понимание смысла символа — не автоматический процесс, сравнимый с чтением знаков какого-либо кода; столкнувшись с символом, человек может его не понять вообще, понять частично; понимание символа во всей его глубине и полноте — это вообще таинство;
— смысл символа носит размытый характер; это скорее семантическое поле, чем определенное значение; мечеть отсылает к Храму, Храм к Скинии, Скиния к Каабе, Кааба к Раю, Рай к Саду, Сад к Небесному Иерусалиму и т.д.
Это, прямо скажем, довольно-таки несовершенная семиотическая система, если считать, что ее целью является что-нибудь кому-нибудь сообщить. Мне кажется, понять символ можно в перспективе разрушения Храма, о которой я рассказывал. Храм содержал в себе силу Бога и находился в нашем физическом пространстве. Это был магический объект. Он разрушен, Бог эмигрировал на небеса. Символ — это попытка преодолеть разрушение храма. Символ — это волшебная палочка, разломанная на означающее и означаемое. Он может отказаться символизировать, не сработать. Его понимание требует ритуала, он не только нечто значит, но является порталом для перенесения в метафизику.
Это не язык знаков, а испорченный язык, нарушенная коммуникация, которую нужно все время восстанавливать. В принципе, все это может работать только в храме, так, чтобы пространство и движение заполняло пробелы потерянных слов. Однако дело не исчерпывается храмом. Такое устройство сакрального определяет жреческие ценности в городах авраамических религий.
Чтобы соединить сломанную волшебную палочку, нужно найти ту ее половину, которая осталась в реальности. Чтобы восстановить разрушенный храм, нужны его останки. Это обнаружение — обязанность жрецов. Они ищут истоки, начала, время жрецов — прошлое. Они постоянно всматриваются в ткань города в надежде найти в ней следы божественного замысла, Шехины. Она может проявляться в разных вещах — в красоте, в непостижимости, в надежде, что какой-нибудь выброшенный камень окажется краеугольным.
Вероятно, есть люди, которые способны постичь символ самостоятельно. Откровение может случиться с кем угодно и когда угодно. Однако надеяться на это чудо для успешной социальной практики было бы неразумным. Смысл символа неустойчив, расплывчат, размыт — но он толкуется. Символ нуждается в толковании, он не существует без толкований, он порождает постоянно действующий, устойчивый институт толкования. Это — функция жрецов. Проповедники, учителя, экскурсоводы, краеведы, филологи, историки, философы и т. д.— все они нужны для того, чтобы удерживать сакральное и разъяснять его всем остальным социальным группам.
Человек не способен научиться языку, если он вырастает в одиночестве. Знаки социальны — они требуют существования социума, который их понимает и употребляет. Для того чтобы система соотнесения реальности с небесами работала, чтобы существовал язык метафизики, необходимо существование устойчивого социума, который его знает. Задача жрецов — создание и поддержание социума, который понимает метафизические языки. Городские сообщества не существуют без жрецов, и это в равной степени относится к церковному приходу и к сообществу велосипедистов — чтобы понять, как оно ездит, ищите жреца велосипедистов.
Обнаружение сакрального, толкование сакрального и поддержание социума, способного им пользоваться,— вот жреческие ценности в городе.
 Праздник
Праздник

Фото: DIOMEDIA / DeAgostini
Казалось бы, очевидно, что городские праздники — наследники архаических, сельскохозяйственных, календарных. Современные праздники привязаны к церковным, те в свою очередь — к языческим, к праздникам урожая. Праздник — дело известное. Праздник — это "Франсуа Рабле и народная культура Средневековья". Это институт обнуления социальной иерархии. Институт единения общины, институт превращения ее в коллективное тело. Институт отсчета социального времени.
Это правда, но есть существенное отличие. В деревне люди изначально друг другу не чужие. Половина — родственники, все друг другу знакомы. В городе никто никого не знает. Город, как справедливо написал когда-то Макс Вебер,— это "поселение изначально чужих друг другу людей". До объединения в коллективное тело тут дело не доходит, дай бог запомнить, как соседей зовут.
Как тут вообще возможен праздник?
Эмилия Кустова, исследователь советских массовых зрелищ эпохи авангарда, так описывает демонстрации 20-х годов.
"Предприятия выходили на демонстрацию, неся символы своего производства. В качестве таких символов использовались орудия труда, станки, продукция, настоящие или в виде их увеличенных макетов. Шли броненосцы, вагоны, печатные машины, мельницы, паровозы. Над толпой реяли колоссальные папиросы, сапоги, карандаши. В рядах демонстрации ехали автомобили и повозки, на которых разыгрывались короткие инсценировки, пантомимы, кукольные представления, "живые картины", а порой демонстрировались обычные трудовые процессы. Вот над толпой работает колесо "Русского дизеля". Вот фабрика Бебеля показывает свое скромное и нужное производство: на глазах у толпы работница делает щетку. Молочная ферма устроила на грузовике ясли, и добродушная и спокойная морда коровы смотрит вниз на толпу".
Я наткнулся на это описание в поисках аналогий для картины "Купание красного трактора" из открытия Олимпиады в Сочи. Гигантская голова колхозницы из "Рабочего и колхозницы" Веры Мухиной, проплывшая над стадионом, немного напоминает, мне кажется, эту добродушную корову. Впрочем, описание подходит для многих событий. Сравните с памятным парадом, который устроил Петр Павлович Бирюков на день города в 2016 году: "Длина колонны составила около 2 км. В нее вошли более 680 единиц специальной техники, в том числе поливальные и уборочные машины, вакуумные пылесосы, мусоровозы, эвакуаторы, бетономешалки и автокраны".
Более или менее очевидно, что этот пронос происходит из религиозных процессий. На Сицилии, скажем, в зависимости от посвящения церкви, приходы в процессиях несут статуи святых или скульптурные группы, изображающие их мученичества. Скажем, в Катании, городе святой Агаты, в процессиях несут ее груди (отрезанные во время мученичества), и манифестанты соревнуются в том, у кого они лучше и больше, а посторонних зевак кормят пирожными в форме тех же грудей (minne di Sant'Agata). Это немного напоминает рабочих "Русского дизеля", несших свой важный предмет.
Юрий Михайлович Лотман любил приводить в пример проект Джонатана Свифта из "Путешествия Гулливера в Лапуту".
"Для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Единственным неудобством является то обстоятельство, что, в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы, собеседникам приходится таскать на плечах большие узлы с вещами. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжение часа; затем складывали свою утварь, помогали друг другу взваливать груз на плечи, прощались и расходились".
Эта идея, по мысли Лотмана, иллюстрировала множество аспектов знаковой логики, в частности тягу Просвещения уйти от лживости слов к честности вещей — ведь говоря вещами, обмануть трудно. Но отчасти действия свифтовских мудрецов напоминают городские праздники — кажется, что эти люди, несущие над головами экзотические предметы, таким образом разговаривают друг с другом. А может быть, и с тобой.
Наблюдающий город со стороны — до известной степени социопат, и городской праздник для него — испытание более или менее травмирующее. В параде вакуумных пылесосов, гигантских карандашей или грудей есть нечто заставляющее почувствовать себя чужим на празднике жизни. Возникает ощущение, что эти несуны что-то хотят тебе сказать. И не только сказать. Не знаю, почему Лотман об этом не упоминает, но то, что описал Свифт, больше всего похоже на процесс бартерной торговли. Власть тебе хочет продать образ снегоуборочной машины, церковь — образ мученичества за веру. Тебя будто дергают за рукав и говорят: купи, купи, слаще не бывает.
По происхождению эти несомые предметы — вотивные дары, которые несут в храм во время религиозных процессий. "Представь же себе и то, что люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева",— говорит Платон в "Государстве", поясняя свою мысль о том, что все вещи — тени своих метафизических прообразов. И мы, конечно, живо себе это представляем, памятуя наши демонстрации. Но с другой стороны, в жертве богам и торговле есть нечто общее.
Был такой величайший арабский путешественник XIV века Ибн Баттута. Проездом из Алжира в Малайзию он оказался в Золотой Орде и оставил колоритное описание торговли на крайнем севере этой обширной земли.
"После 40 дней пути путешественники останавливаются в земле мрака; там они раскладывают свои товары, а сами удаляются на недалекое пространство; на следующее утро они приходят на то место, где оставили свои товары, и находят меха соболей, белок и горностаев, выложенные рядом с их товарами, как предлагаемую в обмен за товары ценность. И если владетель товаров будет доволен, то он берет меха; в противном случае оставляет их нетронутыми. Если в следующий раз сделают прибавку мехов, то он наконец принимает их взамен товаров. Таким-то образом происходит там купля-продажа: путешественники даже не знают, с кем они ведут торговлю, с людьми или духами: потому что никого они не видят в лицо".
Представьте — вечная тьма, лед, ты выкладываешь на снег свои подношения и удаляешься, а потом боги тьмы и холода одаряют тебя соболем и горностаем. Это не очень торговля — немного священнодействие. Кто-то мог бы сказать: "Это — наша родина, сынок".
Платон в том же "Государстве" прямо высказывается против того, чтобы пускать торговцев в город, рекомендуя построить отдельное место в отдалении, и ровно так сделано в Афинах, где есть сам город, а есть Пирей. Цицерон повторяет Платона, и это соответствует структуре римских поселений, где отдельно выделяется emporium — для купцов. Ранние европейские ярмарки располагаются не внутри города, а рядом, за стенами — их не впускают внутрь. Иногда, как в будущих ганзейских городах, они образуют отдельные торговые поселения рядом с существующим городом.
Торговля — это всегда обмен с чужими. Свои друг с другом не очень и торгуют — у них все одно и то же. А чужие — всегда немного "царство тьмы". Но в городе, напомню, все чужие. Тут на празднике не только танцуют и поют похабные частушки, ублажая злых духов нестроения для конечного торжества добрых духов устроенности. Тут прежде всего торгуют, и городской праздник — это всегда ярмарка. Больше того, торговля определяет, как танцуют и поют.
Есть такой предмет — история Венеции. Там, в общем-то, грустная канва. Сначала, в V-X веках,— это поселения на болотах жителей Римской империи, убежавших туда, куда готы на лошадях не сумели переправиться. Потом, в X-XIV веках, в силу промежуточного положения между Византией и Западом — величайшая торговая республика мира. А потом — захолустье без политического влияния и денег. Зато бесконечное веселье, театр, главный публичный дом Европы. Карнавал длился по полгода — в масках ходили на рынок, в церковь и в суд.
И каждый раз, читая эту историю, думаешь, как же так, сначала Энрико Дандоло, захвативший Константинополь, Леонардо Лоредано, победивший Юлия II, императора Максимилиана и Людовика XII, великое искусство, великое богатство, а потом — одни Лучинды с Коломбинами.
Но дело в том, что торговля — это всегда немного в маске, там "никого не видят в лицо" по самим условиям игры. И когда исчезает поток товаров, навык, культура поведения все равно остается. Ярмарка не бывает без балагана, цирка, театра. Торговля — это школа отчуждения (сам термин alienation изначально означает выброс товара на рынок). Отчуждаются вещи, деньги, обязательства, отношения. Чтобы торговать, никто ни с чем не должен быть кровно связан.
Актеры странствуют с купцами не потому, что цирк, театр, балаган и карнавал кормятся с потока покупателей. Они учат людей отчуждению от самих себя, учат, как продавать свой облик. В городе, увы, неэффективно быть самим собой. Никто не должен быть представлен во всей полноте своей личности и статуса — иначе, как это получилось в "Политике" Аристотеля, цена товара должна зависеть от личности продавца и покупателя, а так много не наторгуешь. Никто и не может быть представлен в этой полноте, ведь город — это пространство анонимности, здесь никто не знает друг друга в лицо. Маска — это и есть анонимное лицо, но с характером. Это школа "частичного человека", "одномерного человека", как это определял Герберт Маркузе. Частичный человек — это и есть роль, маска. Эти дизели, карандаши, груди, которые люди носят на демонстрациях,— те же маски, только над головой. Люди пытаются докричаться до тебя своими субститутами, чтобы сообщить, какую роль они сегодня играют.
Это и есть смысл городского праздника. Городской праздник — это ритуал предъявления чужих людей друг другу. Это постановка в "обществе спектакля", как это определял Ги Дебор. Только по недоразумению, в силу аграрных пережитков в головах руководителей некоторых поселений, городской праздник пытаются проводить в духе "единения всех горожан". Это не праздник единения, это праздник отчуждения и обмена ролями.
Поэтому если ты чувствуешь себя чужим на этом празднике жизни — это значит, что все хорошо. Праздник удался.
 Больница
Больница

Госпиталь Khoo Teck Puat в Сингапуре
Больница — довольно парадоксальное учреждение. Как правило, сегодня это комплекс зданий на окраине города. Территория больницы обязательно огорожена, и если это приличная больница, то периметр охраняется, иногда вооруженными людьми. После того как вы миновали КПП, вы оказываетесь на территории, оформленной скупым парковым образом, как военная часть. Вход в больничные корпуса затруднен, опять же на входе предполагается охрана. Это может выглядеть по-разному, но все это оттенки мрачного.
При этом перед нами одно из высочайших достижений цивилизации. Это важнейший городской институт. По смыслу, по своему положению в городе больница должна быть в центре внимания, как храм, музей или театр, но здесь происходит какое-то изменение смысла. Это учреждение, которое демонстрирует вам, что, если вам туда нужно, значит, вы отличаетесь от всех остальных и не вполне среди них уместны. Вам — в изолятор. Это так антигуманно и так устойчиво антигуманно, что здесь, вероятно, есть какой-то смысл.
Есть длинная история госпиталя как института, она, по сути, развитие филологического посыла. «Госпиталь» от латинского hostis — это «враг, чужой». Госпитали возникли по паломническим дорогам — с севера Европы к Сантьяго-де-Компостела в Испании или в Рим по Via Francigena. По-французски они назывались Hotel Dieu (так и сегодня называются старейшие французские больницы), и на месте паломнических центров в Париже, Арле, Лионе, Реймсе, Риме и т. д. выросли европейские госпитали. Конечно, это в большей степени были постоялые дворы, но отчасти и больницы. Но важно, что это места для несвоих, для чужих.
В Х веке началась эпидемия проказы (считается, что ее занесли викинги вместе с мехом), и постепенно появились лепрозории. «Гости» оказались не просто чужими, они были физически опасными (а вслед за проказой в XIV веке пришла чума). Лепрозории строились как монастыри, как правило, во имя святого Лазаря (откуда название «лазарет»). Они изолированны, часто расположены на островах, как госпиталь святого Духа в Нюрнберге, Венецианский госпиталь, Hotel de Dieu на острове Сите в Париже или Оspedale Fatebenefratelli на острове посреди Тибра в Риме. Правда, изоляция отчасти определяется идеей ухода от жизни, которая происходит изнутри монастыря, а не снаружи. Но из него не выпускают.
Сегодня кажется настолько само собой разумеющимся, что здравоохранением занимается государство, что не приходит в голову, что это может быть не так. Вообще-то не совсем понятно, из какой теории государства следует такая его обязанность. Но если принять, что больные — это чужие, тогда все становится понятно. Чужими в городе занимается власть. Здравоохранение — это не столько охрана здоровья, сколько охрана от больных.
Государственная, бюрократическая, машинная логика обращения с болезнью резко разделила госпиталь и гостиницу. До Просвещения в госпитале еще сохраняется дух странноприимного дома, после его уже трудно ощутить. Гостиница остается местом для чужих: до авангарда (когда все жилье на некоторое время стало пониматься как больница, в чем до некоторой степени заключается смысл формулы «машина для жилья») никто не заботится о том, чтобы своим убирать кровати и комнаты, кормить их и стирать им одежду, чужие же отчасти как дети, за ними нужно ухаживать. Но эту функцию берет на себя рынок, государство, за редкими исключениями, никогда не занимается гостиницами. С госпиталями происходит иначе.
Мишель Фуко описал, как устройство просвещенческой власти конструирует государственную медицину — речь идет о XVIII веке. Реально функция охраны общества от больных начала переходить от властей церковных к светскому государству, видимо, гораздо раньше и шла постепенно. Огромное значение здесь имело появление в XVII веке больших пехотных армий с большим количеством раненых и инвалидов. Это предопределило появление королевских госпиталей во Франции и Англии. Их прототипом были казармы. Но действительно именно XVIII век — это решительный прорыв.
Две идеи Фуко являются здесь наиболее принципиальными.
Во-первых, это переосмысление болезни, которая теперь полагается нарушением естественного состояния человека. Сама по себе сравнительно невинная и до известной степени полезная для лечения, эта мысль вместе с тем превращает больного в существо неестественное, противоестественное. От него нужно защищаться, и государство берет это на себя. Болезнь оказывается родом преступления. В 1784 году в Вене строится старейший в Европе сумасшедший дом Narrenturm (теперь Музей патологоанатомии), проект которого до изумления схож с идеальной тюрьмой, придуманной в то же время Иеремией Бентамом.
Вторая идея — это классификация болезней. К началу XIX века все признали, что в больницах люди умирают, заражаясь друг от друга, и поэтому больных разными болезнями не нужно держать вместе. Фуко видит здесь воздействие идеи бюрократической власти, министерств и ведомств — каждой болезнью занимается свой департамент. Так появилась принципиально иная больница — из многих корпусов, для каждого типа болезней — свой.
Работа по классификации важна, поскольку вводит в обращение с больными элемент механики. Госпиталь становится институтом сортировки бракованных объектов, и при существовавших методах лечения сортировка оказывается главным действием. Важно прежде всего определить, каким именно видом брака является данный случай. Это еще не машина лечения, но уже склад сырья для нее.
Новое, что вносит в эту историю ХХ век,— это понимание лечения как производства. Больница ХХ века — это фабрика по лечению, каждый корпус больницы оказывается своего рода цехом. Эволюция типологии больниц оказывается отражением эволюции производственных зданий. В конце XIX — начале ХХ века они разбиты на цеха и представляют собой множество отдельно стоящих зданий. Ровно так же в этот период устроены фабрики — каждый производственный процесс требует отдельного здания. Во второй половине века производство начинает строиться вокруг одной силовой установки (как на атомной станции), аналогично и в госпиталях возникло ядро госпиталя со сложной и дорогой аппаратурой, и вместо госпиталей-городков из десятков корпусов возникли многоэтажные госпитали вокруг одного ядра.
Это странная эволюция — от постоялого двора для пилигримов к монастырю, от монастыря — к казарме, от казармы — к фабрике по ремонту людей. Но, заметьте, во всех случаях это место для содержания чужих. Свои не болеют. Свои — это здоровые.
В 2010 году в Сингапуре открылся госпиталь Khoo Teck Puat. Сингапур в области медицины в Азии — это примерно то же самое, что Швейцария или Израиль в Европе,— туда ездят лечиться богатые пациенты из Китая, Малайзии, Индонезии, Вьетнама и т. д., это прибыльная индустрия страны. Этот госпиталь с пятизвездными палатами и новейшим оборудованием был визитной карточкой отрасли, решение о его строительстве принимал лично Ли Куан Ю. Я случайно оказался в Сингапуре в момент открытия, и принимавшее меня Министерство туризма специально предусмотрело посещение предмета национальной гордости.
Госпиталь, построенный бюро RMJM (Robert Matthew и Johnson Marshall), которых в тот момент российская общественность проклинала за проект Газпромскреба на Охте, был вполне себе ничего, но поразила меня не его достаточно нейтральная архитектура, а некоторые особенности функционального наполнения. В госпитале я посетил гастропаб, который в путеводителе по Сингапуру был отмечен как модное и обязательное к посещению заведение. Соседняя дверь вела в морг.
Ку Тек Пуат — крупнейший донатор госпиталя, именем которого он и назван,— был владельцем сети отелей в Сингапуре, Малайзии и Австралии, и я подумал, что, возможно, это его решение. Госпиталь, в особенности его первый этаж, больше всего напоминал лобби пятизвездного отеля — с ресторанами, сувенирными лавками, рекреациями и зимними садами. Естественно, тогда больничные функции совмещаются с общественными пространствами. Но впоследствии выяснилось, что это вовсе не индивидуальное решение Ку Тек Пуата, а стандарт современного госпиталя. В этом году открывается новый университетский госпиталь Стокгольма (Karolinska Solna University Hospital), его первый этаж — такое же открытое в город (сплошные витрины) многофункциональное общественное пространство. Если вы посмотрите свежие рекламные проспекты израильских, немецких, швейцарских клиник, то с некоторым удивлением обнаружите там не столько информацию о лечении, сколько рассказы о ресторанах, садах, бассейнах и т. д., как будто речь идет о предложении отдохнуть на курорте.
Вопрос о том, как выглядит госпиталь,— это до известной степени вопрос толерантности. Вопрос того, как в городе относятся к чужим.
 Торговый центр
Торговый центр

Фото: GettyImages.ru
По непонятным причинам в Америке и Европе торгово-развлекательные центры в середине 2000-х начали пустеть. Строить их тоже почти перестали. Зато у нас — расцвет.
Джейн Джейкобс, одна из основателей урбанистики и, несомненно, самый симпатичный урбанист всех времен и народов, оставила впечатляющее описание того, как работает социальный контроль на традиционной городской улице.
«Мужчина пытался заставить девочку пойти с собой. Он то уговаривал ее, то делал безучастный вид. Девочка, стоявшая у стены многоквартирного дома, напротив, не поддавалась.
Пока я наблюдала из окна второго этажа и размышляла о том, как мне лучше вмешаться, необходимость в этом отпала. Из мясной лавки, находящейся внизу многоквартирного дома, вышла женщина, которая со своим мужем управляла этой лавкой; она встала в пределах слышимости, скрестила руки на груди и сделала решительное выражение лица. Тогда же вышел и Джо Корнаккиа, который со своими зятьями держит гастроном, и с серьезным видом встал на другой стороне улицы. Двое мужчин из бара рядом с мясной лавкой встали в дверях и начали ждать. На моей стороне улицы я увидела, что владелец скобяной лавки, торговец фруктами и хозяин прачечной вышли из своих магазинов и что за сценой наблюдали из множества окон, помимо моего. Мужчина не знал об этом, но он был окружен.
Никто не позволил бы увести маленькую девочку».
В этом интермеццо городские лавки, их хозяева и посетители оказываются данностью «старого доброго порядка вещей», кажется, без них городов не бывает. Но это не так. Фернан Бродель с ошарашивающей основательностью доказал, что городская лавка — сравнительно поздний институт, и даже до известной степени скандальный. Торговали на рынках, на площади по определенным дням, и вместо лавок там были прилавки или лотки. Массовое распространение стационарные лавки получили лишь в XVII веке. Причем Лопе де Вега, с благородным негодованием бичуя Мадрид, пишет, что «все вокруг превратилось в лавки», а Даниэль Дефо примерно то же замечает про Лондон — «разрастание числа лавок сделалось чудовищным». Просвещенные джентльмены выражали свою антипатию в пьесах и памфлетах, а люди менее достойные прибегали к действиям — лавки громили и поджигали, тем более что держали их часто иностранцы, итальянцы в Северной Европе, а в Центральной и Южной — и вовсе евреи с армянами.
Торговцы — люди чужие, и в этой чуждости, мне кажется, таится удивительный успех новации, которая произошла в наполеоновской Франции. Из восточных походов Наполеона французы привезли пассажи. Пассаж — крытая улица, которая вся состоит из лавок,— это, в принципе, принадлежность восточного базара, в Дамаске или Стамбуле они вполне себе дожили до современности. В Париже до сих пор остались километры пассажей, от Пале-Рояля до Севастопольского бульвара вы можете пройти по 13 пассажам километров семь, петляя самым странным образом — все это построено в первой половине XIX века, еще до реконструкции барона Османа. Пассаж — это лавка под крышей, в ней нет никакой новации, кроме одной: она на своем законном месте, среди других лавок, и тут действуют другие правила, чем в остальном городе. Ту же самую функцию выполняют торговые улицы европейских городов — просто пассажи делают это концентрированнее.
Тут выяснилась одна особенность торговли. Магазины, расположенные рядом, собирают куда больше народу каждый, чем когда они по-отдельности. Для продавца и покупателя сегодня это самоочевидно, но вообще-то это не вполне тривиальное поведение. Так не ведут себя церкви, школы, административные здания, хотя театры, музеи, рестораны дают схожий эффект. Советская власть, к слову, пыталась распределить магазины по принципу доступности — равномерно среди домов, как поликлиники или детские сады, чтобы все граждане были на равных расстояниях от нужного им товара. Так нет, граждане не находили это удобным и шли туда, где магазинов побольше, в надежде, что там и выбор побогаче, хоть опыт и доказывал им тщету этих иллюзий.
Концентрация лавок, однако, сама по себе не произвела еще революции, она была предпосылкой. Революция произошла в 1850-х. Благодаря роману Эмиля Золя «Дамское счастье» мы знаем ее автора — Аристид Бусико.
Дело в том, что в лавках торговались. Цена менялась в зависимости от социального статуса покупателя, степени его знакомства с продавцом, едва заметных отличий в качестве товара и т. д. Собственно, каждый знаком с этим по опыту посещения любого рынка. Бусико, открывший свой магазин Le Bon Marche, придумал фиксированную цену. У него оказалось много лавок в одном месте, где все продавалось по фиксированной цене.
В течение короткого времени — примерно 30 лет — из этого изобретения родились великие европейские универмаги — Printemps, Samaritaine и Galeries Lafayette в Париже, Galleria Vittorio Emanuele II в Милане, Harrods в Лондоне, Верхние торговые ряды (ГУМ) в Москве и десятки других, менее знаменитых. Универмаг на некоторое время стал самым важным архитектурным жанром. Это было место главных архитектурных новаций, города стали бредить универмагами, как до того бредили музеями, театрами и вокзалами. В здании Верхних торговых рядов в Москве была своя электростанция и электрическое освещение — в этот момент остальная Москва освещалась газом. Под зданием была проложена рельсовая система грузового передвижения — притом что сами товары в магазин доставлялись еще на телегах с лошадьми. В здании впервые в Москве появился лифт — его привезли прямо с Парижской всемирной выставки. В здании был создан первый в Москве общественный туалет. Тут впервые были построены снегоплавильные установки.
Но поток новаций не проясняет, а затемняет суть происшедшего. Концентрация лавок и фиксированная цена привели к появлению своеобразного конвейера торговли. Если при покупке не торгуются, то время, которое тратится на одного покупателя, резко сокращается. Кроме того, в роли продавца может выступать гораздо менее квалифицированный человек. Универмаг так же относится к лавке, как завод к кустарной мастерской. По сути, это был институт индустриализации торговли, завод по торговле, и, как всякий завод, он был на порядок эффективнее мастерской и на порядок более открыт к инновациям.
Вопрос в том, что эта фабрика производит. Тут за последние сто лет произошла сначала революция, а потом контрреволюция.
В великих универмагах Европы торгующей единицей была отдельная фирма. По сути, это та же лавка, хотя и модернизированная универмагом. У нее был свой профиль, своя история, свой набор товаров. Но были и неудобства — человек пришел за штанами, а штаны продаются в десяти местах, и их трудно сравнить между собой.
Американцы произвели следующую революцию в торговле — они придумали department store. Вместо сотен фирм были придуманы отделы — департаменты. Есть отдел мужской одежды, в нем есть отдел штанов — и пожалуйста, выбирай любые. Издержки на поиски нужного товара сократились, сократилось и количество необходимых продавцов, производительность их труда резко выросла. Когда в 1953 году Анастас Микоян заново открывал ГУМ, он перестроил магазин из системы классического универмага в американский department store. «Без продавца!» — так гордо называлась одна из статей об открытии ГУМа, и это было чудо: вместо десятка прилавков один большой торговый зал, и в нем — только, скажем, детская одежда. Это, конечно, завод нового уровня, он лучше, быстрее, эффективнее обслуживает поток. Но он не создает потока.
У великих универмагов обнаружилось неожиданное конкурентное преимущество. Когда они создавались, его не было. Они строились в исторической городской среде, в старом городе, и department store в той же среде ничем им не уступал. Однако когда возник модернистский город — неважно, в виде ли бесконечных многоквартирных домов или коттеджей,— то отдел, где висят бесконечные штаны, выглядел их прямым продолжением. Он был так же безнадежно однообразен. А вот классический универмаг с его сотнями фирм, лавок, кафе, универмаг, выросший из пассажа, перекрытой городской улицы,— он был другим пространством. Он сам порождал поток.
1980-е годы — это момент контрреволюции в торговле. Это появление ТРЦ, торгово-развлекательного центра. Магазин вновь разделен на сотни отдельных лавок. Кроме этого, в него включено все, что встречается в историческом городе. Рестораны, кафе, кинотеатры, спортивные площадки, зимние сады, детские площадки, аттракционы, художественные галереи и т. д. Магазин перестал быть фабрикой по производству торговли. Он стал фабрикой по производству города.
Надо сказать, что у этой институции масса достоинств. Это изобретение, в которое вложена масса ума. Если представить себе реальную городскую среду спального района и сравнить ее с тем, что вы имеете в торговом центре, то это земля и небо. Там всегда светло, там прекрасный климат, там все в двух шагах и на каждом шагу чудо. Но надо понимать, что это именно фабрика по производству города, а не сам город. Даже структура знаний о торговом центре совершенно иная, чем о среде остального города. В городе мы, в принципе, знаем, что количество пешеходов зависит от качества тротуаров, а ширина проезда определяет скорость движения. Но это такие размытые, качественные характеристики. А в ТРЦ мы знаем, что каждый этаж вверх — это сокращение потока на 30%, а любое препятствие в движении по торговому залу (ступенька, поворот) — на 5%.
ТРЦ — это возгонка городской среды до состояния производства денег. Поэтому все городские процессы здесь усилены, интенсифицированы и оптимизированы. К сожалению, не только те, которые приводят к увеличению оборота и прибыли. Город в принципе — место жизни незнакомых друг с другом людей, но на местной улице все же образуются какие-то знакомства, сообщества, социальность. В торговом центре анонимность усиливается стократно — никто никого не знает и не интересуется узнать, и это вообще лишнее. Если к вашим соседям пришли воры, есть вероятность, что вы проявите какую-то активность. В торговых центрах задерживают массу воров, но не с помощью посетителей — они этого не замечают, и не должны, и это не их дело. В городе люди вообще не очень чувствуют себя ответственными за его состояние — их мало интересует, если где-то треснул асфальт или погас свет, на это есть специальные службы. Но на своей улице все же, если случилась какая-то опасность, жители начинают волноваться, а сегодня создаются специальные городские порталы, где граждане сообщают о замеченных неприятностях — и их к этому постоянно призывают. Но в торговом центре это никому не приходит в голову. Безопасность — дело не людей, а охраны, ведь, если покупатели начнут думать о безопасности, они отвлекутся от покупок.
Представьте себе, что сцена, которую описала Джейн Джейкобс, происходит не на реальной улице, а в торговом центре. Там может быть и мясная лавка, и гастроном, и бар, и прачечная, и то, что сегодня заменило скобяную лавку. Но там никто не выйдет и не станет смотреть на мужчину, который пытается увести с собой девочку. Там никто в упор не увидит ни мужчину, ни девочку, а если увидит, не осознает опасности.
И, с другой стороны, этот концентрат городской среды бьет реальный город как хочет. Он высасывает из остального города людей и бизнесы. Рядом с ТРЦ не остается ни кафе, ни лавок, ни магазинов, среда деградирует. Если бы удалось изобрести торговый центр, в котором покупатели могли бы и спать (и видеть во сне товары), опустели бы и дома.
 Гаражи и рынки
Гаражи и рынки

Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru
Есть разные подходы к поискам русской национальной идентичности вообще и структуре российских поселений в частности. Там много всего придумано, но вот есть одна уникальная вещь — гаражи. Русские гаражи — это как русский авангард или русская вера — встречаются преимущественно в России.
Причем гаражи претерпели существенную эволюцию от советских к постсоветским временам. Советский гараж являлся прежде всего местом и формой проведения досуга. Советский индустриальный город был устроен таким образом, что отдых мужчины работоспособного возраста в нем не был пространственно предусмотрен. Если у него не было гаража или друга с гаражом, он проводил свое свободное время на детской площадке во дворе или у магазина, мучительно переживая свою неуместность. Иное дело — гараж. Карбюратор, кто помнит,— это такая вещь, что за перебиранием его можно проводить годы.
Однако в постсоветское время все изменилось. Оригинальный социальный мыслитель сегодняшней России Симон Кордонский открыл «гаражную экономику». Выяснилось, что в бывших индустриальных городах, где закрылись заводы, от 15 до 30% населения работают «в гаражах».
Это колоссальное открытие. Оказалось, что Россия — это вовсе не страна, которая ничего не производит, а вяло посасывает тонкую денежную струйку из цистерны патернализма. Нет, она производит машины и диваны, чебуреки и табуретки, книжные полки и стрелковое оружие, алкоголь и наркотики, шьет и пилит, разводит свиней и пушного зверя, создает сувенирную продукцию и спортинвентарь и т.д. и т.п. — в гаражах. Гаражи превратились в мастерские, и они живут своей жизнью. Это огромные городские территории, фактически новые промзоны (часто трансформированные старые), со своей охраной, питанием, нотариусами (для переоформления машин), зонированием, социальной иерархией — фактически гетто, города в городах.
Репортажами о гаражных кооперативах в Тольятти и Димитровграде, Анапе и Москве, Тюмени и Владивостоке заполнены журналы и газеты. Обычно это описание самой мастерской и производственного процесса, очерк хозяйственной деятельности и быта с элементом этнографической отстраненности, интервью с хозяином, описание отношений с властью и серых финансовых схем. Иногда сочувственное, иногда негодующее, в последнем случае в рассказ добавляются порочные детали — антисанитария, подделки, мафия, преступность, проституция, наркомания, мигранты.
Симон Кордонский убедительно доказывает, что это не бизнесы, а промыслы. Бизнес можно продать, а промысел — нет (хотя можно унаследовать). Бизнес нацелен на производство товара, а промысел — изделия, а уж продастся или нет — другой вопрос. Есть множество других отличий, и само слово «промысел» наводит на некоторые размышления. Конечно, такого нигде больше нет, но все же нельзя сказать, что это ни на что не похоже. Это очень похоже на средневековые рынки, которые и сегодня прекрасно действуют на мусульманском Востоке. Если абстрагироваться от лавок вдоль улицы и проникнуть внутрь двора (квартала), который эти лавки обрамляют, то вы там обнаружите ровно те же мастерские, которые производят, доводят, ремонтируют и демонтируют то, что в лавках продают. Конечно, стамбульского ювелира или дамасского сапожника трудно сопоставить с димитровградским карбюраторщиком или московским веломастером, наши промыслы — это промыслы людей индустриальной цивилизации. Однако если двинуться дальше на Восток — в Китай,— то там вы обнаружите в глубине лавок ровно того же постиндустриального ремесленника.
Тут нужно сказать два слова о специфике индустриального города. Он развивается из поселка при заводе, первоначально там есть только жилье, завод и железнодорожная станция. Так выглядели company towns в Америке конца XIX века, правда там были еще церковь и салун. Советская власть их убрала, зато добавила социальную инфраструктуру — школу, больницу и клуб, ну и государство. Так помимо площади заводоуправления появились площадь райкома, милиция, прокуратура и суд. Все это может довольно жалко выглядеть, но именно это и делает индустриальный город городом, а не рабочей слободкой. Однако то, что принципиально отличает эти города от обычных,— там нет рынков. Вообще нет, поскольку изначально промзона снабжается через ларек.
Я имел случай предложить в качестве одной из мер развития моногорода с развитой гаражной экономикой довольно простое решение: дополнить гаражную промзону рынком, окружив ее по периметру (и по основным проходам) лавками и оставив мастерские внутри. Это, конечно, не решает всех проблем гаражной экономики, но все же в значительной степени выводит ее из тени. Кроме того, вместо закрытой зоны в городе мы получаем новый городской центр — и какой! Ведь те 15–30% работоспособного населения, которые работают в гаражах,— это и есть самые активные, предприимчивые, открытые горожане.
Пока не получилось.
Есть специфика отношения к рынку в России.
К рынкам много претензий — антисанитария, подделки, мафия, преступления, проституция, наркомания, мигранты, то есть ровно те же, что и к гаражным кооперативам. Сходство аргументов выдает близость стоящей за ними идеологии. Люди же сравнительно похожие, только это не те 15–30% активного работоспособного населения, которые ушли в гаражи, а те 5%, которые ушли в челноки. Люди, не пригодившиеся государству и ушедшие от него. Снабжение городов и торговля в городах — это большая индустрия, в советское время она была полностью монополизирована государством и теперь основывается на наследии централизованной монополии. Рынок же всегда плохо контролируется государством.
Но вообще-то это более или менее поразительное явление. Возьмите Москву.
Москва — это место, где Восток встречается с Западом, у нас появился формат сугубо западного туристического рынка. Даниловский или Усачевский рынок теперь выглядят, как Mercat de la Boqueria в Барселоне, а открытие Центрального рынка на Трубной утвердило этот формат в самом центре Москвы. Но если говорить о рынках восточного, «кочевого» типа, то их последовательно выдавливают из города в те же бывшие промзоны или за МКАД. Москва озабочена созданием субцентров на периферии и все пытается сочинить этот субцентр вокруг префектуры или центра инноваций — но они не заводятся. Если взять рынок «Садовод», то это несколько километров торговых рядов, гигантское количество людей, товаров и денег — фантастический центр городской активности. Однако он находится на пересечении улицы Верхние Поля и МКАД. В сравнении, скажем, с Дамаском или Самаркандом это город, вывернутый наизнанку: его главная рыночная площадь вынесена куда подальше вовне.
 Центр и периферия
Центр и периферия
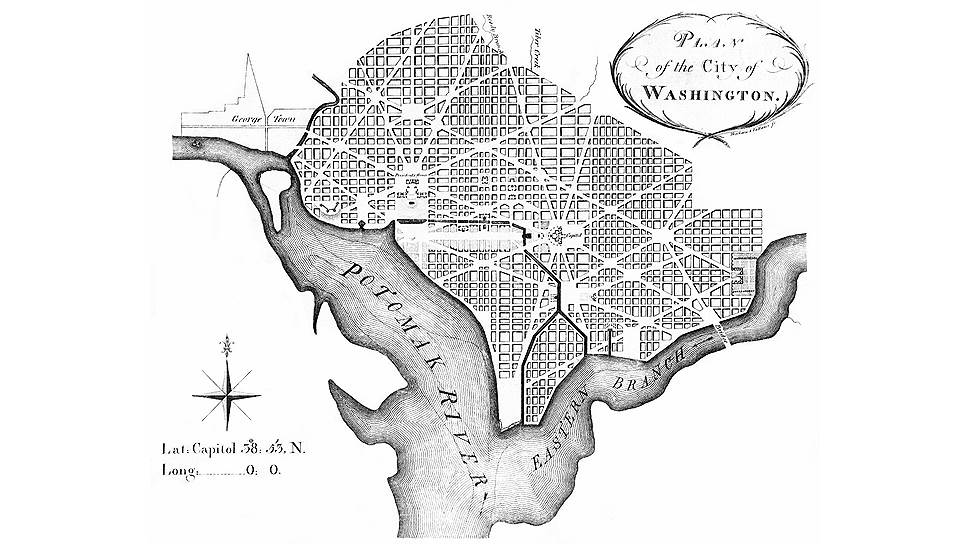
Дмитрий Медведев, присоединяя к Москве Новую Москву, объяснял это свое действие тем, что центр Москвы перегружен, здесь в одной точке соединяются административный, финансовый, торговый, культурный, научный, образовательный центры, нужно их развести по разным точкам и получить полицентричный город. Каждая из функций (сюда можно было бы добавить и военный центр в виде Арбатского военного округа, занимающего целый квартал, но Дмитрий Анатольевич осторожно не добавлял) продемонстрировала нежелание отправляться на выселки и употребила все свое влияние, чтобы этого не произошло. Тут интересно, что в результате победили все и не переехал никто.
Это не первая попытка градостроителей пропихнуть идею полицентризма через высокое начальство. До нее был Генплан Москвы 1971 года с формированием девяти субцентров в спальных районах (следы его можно обнаружить в таинственном расположении главного офиса «Газпрома» в Новых Черемушках). До нее случилась попытка создать вокруг Москвы кольцо наукоградов — Зеленоград, Химки, Королев, Реутов, Электросталь... Все это превратилось в периферию. Полицентризм и сегодня является признанной целью градостроительной политикой Москвы, что, на мой взгляд, является ошибкой. Но в силу доказанной временем нежизнеспособности идеи — ошибкой безвредной.
Конечно, существуют полицентричные города (как Лондон), но они возникают путем слияния поселений, у каждого из которых был свой центр. Центр относится к числу самоочевидных и из-за того несколько таинственных явлений. Самоочевидность — когда центр есть. Таинственность — когда кто-то пытается создать новый центр. Почему-то он не создается.
То есть в случае с Москвой все более или менее понятно. Центр города не создается одной функцией, там обязательно должно быть наложение многих, и если рядом с властью нет торговли, культуры и образования, это значит, что торговлю тут находят занятием зазорным (так бывает — вспомните изгнание киосков из Москвы), а культуру и образование отправили на выселки. Сама идея московской полицентричности — мертворожденное дитя советской градостроительной мысли, вскормленной индустриальной логикой: каждая функция понимается как завод (фабрика культуры, образования, торговли, финансов), каждому заводу — своя территория и свое заводоуправление. Это нежизнеспособно, поскольку противоречит экономической логике постиндустриального города, где эффективность определяется интенсивностью обмена, а она — количеством пересекающихся функций.
Но даже в случае, когда центр пытаются создать не путем выноса одной функции, а более вдумчиво, результаты скорее сомнительны. Яркий пример — попытка создать новый центр Парижа в районе Дефанс, который создавался с 1955 года как символ послевоенного обновления Франции и пережил три попытки запуска (вторая в 1970-е, последняя — начиная с 2006 года). Хотя сегодня это очень впечатляющее урбанистическое образование, тем не менее это никак не центр Парижа. Примерно тот же статус у Канэри-Уорф в Лондоне и в менее пафосном виде — у Сити в Москве. Во всех трех случаях начало строительства нового делового центра города приводило к активизации бизнес-функций в старом центре, он обновлялся и в итоге выигрывал конкуренцию, превращая альтернативный центр в пафосные выселки.
Центр — это наложение функций, но само по себе наложение функций не создает центра. Существуют поселения, в которых, можно сказать, нет центра. Например, Кремниевая долина — это урбанизированное пространство бесконечной периферии, насыщенное высокотехнологичными фирмами и сервисами по их обслуживанию, но сказать, где там центр,— не скажешь. Хотя Сан-Хосе и претендует на этот статус, но это больше похоже на центр курортной зоны. Другой пример — Берлин. Центр этого города уничтожен в 1945 году, и хотя после объединения Германии были затрачены гигантские средства и усилия на то, чтобы его восстановить, он все равно выглядит недопеченным. В этом городе есть центры отдельных районов города, а центр города — пустырь, хотя с небоскребами.
Если альтернативные центры и получались, то на основе политической, а не экономической логики. Это скорее колониальная практика, и основание нового центра здесь синонимично созданию новой столицы; самый яркий пример — это Нью-Дели Эдварда Лаченса, ансамбль, который стал даже более значимым центром Дели, чем старый центр Шах-Джахана. Аналогичные акции были предприняты в советских столицах стран Центральной Азии, прежде всего в Ташкенте. Однако в данном случае центры носят символическое значение. Они напоминают территорию ВДНХ и скорее противостоят колонизуемым городам, чем собирают их вокруг себя. То же может происходить и во вполне органических городах — достаточно вспомнить Кремль в Москве. Это, несомненно, центр города, но с точки зрения городской ткани — это изъятое из города пространство, противостоящее ей, а не центрирующее. Изъятый центр отражает идею насильственно цивилизующей власти, что характерно для колониальных стран, ну или стран, где власть легитимируется путем насильственного ведения общества вперед.
Кажется, что для понимания феномена центра удобнее пользоваться композиционной логикой, чем экономической. В случае, когда мы имеем дело с органическим городом, растущим, как Москва, концентрическими кругами, это убедительно. В градостроительстве есть понятие «узел» — место пересечения нескольких значимых путей; понятно, что при таком построении центр оказывается местом пересечения всех путей, и уже отсюда — местом наложения всех функций. Однако стоит уйти от органической к регулярной планировке — и тот же центр становится более проблематичной субстанцией.
Прямоугольная сетка не имеет центра, каждый ее квадрат равноправен другому (поэтому Джордж Вашингтон считал такую планировку пространственным аналогом демократии). Конечно, существуют разнообразные центростремительные композиции — основанные на идее круга, звезды, свастики и т. д. И множество архитектурных ансамблей эпохи большого градостроительства, от Ренессанса до тоталитарной архитектуры ХХ века, было основано как раз на таких композициях. Однако центр в них — это больше геометрическая точка, чем городское образование, в нем не ясно, что происходит и кто находится. Вспомните площадь Звезды в Париже с Триумфальной аркой — это очень эффектно, но никакого реального центра в арке нет.
Вероятно, самое убедительное возражение против композиционного понимания центра города в урбанистике — это американское название центра города — downtown. Оно чисто геометрическое и происходит из-за более или менее меридионального расположения Манхэттена. Южный Манхэттен, самый развитый и насыщенный в функциональном отношении район города, на карте оказывается внизу, из-за этого он получил название «нижнего города», а вслед за Нью-Йорком городской центр стали называть downtown уже независимо от его положения в городе — внизу, в центре или вверху карты. В американской логике центр вовсе не обязательно находится в центре города — это скорее эксцентрическое место.
Высказанных соображений достаточно, чтобы сказать, что городской центр — это культурный конструкт, который основан на не вполне очевидной логике. Мне кажется, для того чтобы понять ее, имеет смысл обратиться к антониму, к периферии.
Периферия города вообще-то не называется периферией. В Москве и российских милионниках это понятие конкретизируется как спальный район, и главное свойство этого образования в том, что это место без свойств. В нем нет выраженной идентичности, оно не предполагает устойчивого набора жизненных сценариев, там можно заниматься чем угодно и не заниматься ничем. Спальный район — это ускользание от смысла в более или менее комфортную безымянность. Но исторически периферия не была столь невыраженной и нейтральной.
Есть три разных названия периферии, каждое из которых имеет свои смысловые оттенки. Во-первых, это окраина, и в этом слове остро ощущается привкус некоторого сиротства, пораженности в правах. Окраина напряженно смотрит в центр и переживает свою центрооставленность. Она неполноценна и при большой зависимости от центра довольно агрессивно к нему настроена.
Во-вторых, это слобода. Слобода — это искаженное диссимиляцией согласных слово «свобода», это изначально поселение свободных крестьян при городе, не город, не деревня, а нечто промежуточное. Но от кого свобода? От центра, от принятых там обычаев, ценностей и норм поведения. В слободе не то что свои законы, а скорее свое отрицание законов, некая расслабленная лихость. Здесь ощущается отчасти хулиганский привкус жизни. С другой стороны, слобода совсем не нейтральна к центру. Иногда она настроена ворваться туда и захватить его.
В-третьих, это субурбия. Это европейское понятие, в России субурбий долгое время не было, да и сегодня они не вполне сформировались. Субурбия в подтексте имеет то, что называется villa suburbana, подгородную виллу, родившуюся в античности и возрожденную в Ренессансе. Эта вилла трансформировалась в коттедж для среднего класса, но смысл некоторого превосходства над городом в субурбии остался. Это место комфорта и достатка, правильной жизни, основанной на семейных ценностях и гармонии с природой, место, откуда принято обличать суету, грязь, жадность и лживость городов. Субурбия, набирая силу и богатство, периодически мигрирует в центр (что происходит сегодня) в попытке установить там свои порядки (сегодня это экология), а потом, когда ничего не выйдет, вновь бежит от суеты.
Эти смыслы — собственной неполноценности, раскрепощения от ближней крепости и превосходства над неправедными — до некоторой степени позволяют понять, чем является центр. Базовое свойство центра — его неравенство себе. Это место, где большинство людей оказываются с целью посмотреть на центр, и это люди с периферии. Из-за этого центр всегда оказывается сценой, жизнь в нем имеет качество зрелища, это место про «людей посмотреть, себя показать». Несколько задирая планку, можно сказать, что это место рефлексии города, его самоосознания, предъявления ценностей, которыми он живет.
В конце концов, идея, что центр города — это место наложения функций, связана с тем, что сегодняшний спектакль центра — это ритуалы общества потребления, обмена и торговли. Если общество выстроено на других ценностях, такого может и не быть. На Дворцовой площади в Петербурге функции друг на друга не накладывались, это был спектакль имперской власти, действо огромной пустоты. Такое понимание центра было унаследовано советским градостроительством, где весь город стекался к площади перед обкомом, которую редкая птица отваживалась перелететь.
Есть два вида храмов — базилики, основанные на движении от входа к алтарю, и центрические купольные, которые предполагают мысленное движение от земли к небесам. Сравнение их с улицами и площадями банально и общепринято: базилика — это перекрытая улица, а центрический храм — перекрытая площадь. Но интересно перевернуть эту аналогию, обнаружив, что город строится как храм, предполагающий путь от периферии к центру, от профанного к сакральному. Центр — это место самоидентификации города, предъявления его смысла. Три отношения к центру, которые демонстрируют окраина, слобода и субурбия,— это разные отношения к откровению. Посмотрите на персонажей ивановского «Явления Христа народу», и вы легко найдете там лишенца с окраины, нагловатого слободского парня и скептика из субурбии, так или иначе присутствующих при богоявлении.
Здесь уместно процитировать знаменитый фрагмент из Мартина Хайдеггера, объясняющего смысл храма как такового. «Стоя на своем месте, храм впервые придает вещам их вид, а людям впервые дарует взгляд на самих себя, <…> ставит перед выбором, что свято, а что скверно, что велико, а что мало, что доблестно, а что малодушно, что благородно, а что нестойко, что господин, а что слуга». Разумеется, центр несет в себе этот смысл в снятом, разбодяженном виде. Но мне кажется, смысловая конструкция центра так или иначе основана на интуиции если не религиозной, то пост- (прото-, квази-) религиозной.
Это означает, что если вы пытаетесь создать новый центр, не старайтесь перетащить туда функции или пересечь множество путей в одной точке. Поймите, в чем смысл вашей цивилизации, придумайте форму его пространственного развертывания, и у вас получится отличный городской центр.
 Спорт
Спорт

Заброшенная олимпийская площадка для пляжного волейбола, Афины
Фото: Thanassis Stavrakis, AP
Каждый, кому приходилось искать в городе спортивные объекты, оставшиеся от больших событий, испытывал разочарование. Для меня оно началось с поисков телебашни, построенной Сантьяго Калатравой в Барселоне для Олимпиады в 1992 году. Башню видно из города, она высоко на холме, и у нее такая изысканная скульптурная форма, что ее хочется разглядеть поближе. И трудно передать удивление, когда обнаруживаешь, что идти к ней надо через заросший овраг, пока не упрешься в ржавый забор из сетки-рабицы. Место нехоженое и ненужное.
В Турине олимпийские объекты 2006 года, в том числе знаменитый «Паласпорт Олимпико», построенный по проекту Араты Исодзаки, сегодня представляют собой запертые пустые ящики, обнесенные железными заборами. То же в Ванкувере (там многие объекты просто демонтированы), в Сиднее. Когда города переживают спортивные события, то перед тем, как строить стадионы, залы и поля, архитекторы и городские власти, концентрируя мудрость во взгляде, говорят о том, как это все будет использоваться после. Это обязательный ритуал, назначение которого в том, чтобы отогнать подспудную мысль, что все это — стадионы, залы и поля — не нужно. В том смысле, что невозможно сказать, зачем оно.
Градостроительный скепсис усугубляется печальными размышлениями о здоровье спортсменов. Они как здания: были использованы и превратились в руины. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз — такова вся спортивная жизнь, это касается и телебашни, и фигуристки. Ужасающие болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, подорванный диетами желудочно-кишечный тракт, травмы головного мозга и т.д. и т.п. Это после окончания спортивной карьеры. А до? Это же только внешне счастливые, здоровые, немыслимо совершенные люди. А за этим стоит одно бесконечное страдание — адский труд, боль, изнурение, жизнь на пределе физических возможностей — за что?
Бессмысленность затеи проявляется в болельщиках. Спортсмен страдает, чтобы стать примером совершенства для всех. Болельщики по смыслу те, кто уже идентифицировал себя как адепт этого совершенства. Ну вот и посмотрите. Нет, конечно, по-своему милые люди, дружба народов, праздник. Но! Похожи они на Роналду? Пьяные, с пивной фигурой, неряшливо, но кричаще одетые, вдруг ни с того ни с сего начинают петь хором, с неустойчивым эмоциональным профилем — то плачут, то дерутся, то орут и хохочут — это что ж за результаты равнения на спортсменов? Отрицательные результаты.
Зачем?
В Греции было просто, спортсмены были боги. Они приходили на Олимпиаду, и это была иерофания, богоявление. С этим связаны обряды открытия соревнований, праздники и танцы, как вот у нас в Сочи было выдающееся «Купание красного трактора». Заметьте — все пляшут и поют, а спортсмены нет, они торжественно шествуют. Это ритуал шаманских танцев для вызывания божества, и оно является и шествует, и делает свое божественное. Например, божественно бегает.
Но это в Греции. А теперь спортсмены какие же боги? В лучшем случае — депутаты, и то по окончании выступлений.
А может, все же? Это бы многое объясняло.
Ну, например, болельщики. Ведь не бывает бога без верующих в него. Но верующие совсем не должны быть похожи на бога, наоборот, они очень от него отличаются. Святого сопровождает толпа больных, искалеченных, прокаженных, расслабленных, кликуш. Вот вы помните картину Репина «Крестный ход в Курской губернии»? Шествие российских болельщиков, одетых в поддержку национальных традиций.
Или опять же спортсмены. Святые люди. Святой — он же совершенен через страдание. Труд и боль, самоистязание и аскеза — вот путь святого. Ну и борьба с искушениями, иногда проигранная. Нарушения режима. Но в конечном счете — возвращение на путь истинный.
Руины стадионов после соревнований — те же места богоявления. Настоящие святилища всегда в руинах, по той простой причине, что боги не имеют привычки дважды являться в одном месте. Они вездесущи. Но люди хранят память об их явлениях и сохраняют руины, чтобы знать, как строить новые места для выхода богов на сцену. Которые тоже должны превратиться в руины.
Это, конечно, специфическая религия, поскольку она не признает себя таковой. Поэтому стадионы нужны, но нельзя сказать зачем. У властей и архитекторов есть лишь экономический язык обоснований, но он не работает. Это все равно как сочинять экономическое доказательство Бытия Божия. Однако смысл культа понятен — превращение в совершенного человека. Перерождение через боль, страдание и отречение от мирских соблазнов. Это постхристианская религия, зародившаяся, когда умер настоящий Бог — то есть когда Ницше написал, что Бог умер. Таких много — культ искусства, эзотерика, психоанализ, культ власти, науки,— Питер Уотсон собрал выдающуюся коллекцию этих постхристианских верований в книге «Эпоха пустоты». Но спорт он проглядел, а эта религия — самая массовая.
В книгах по истории спорта вы прочтете, что человечество занималось спортом всегда, но это ошибка. Есть древнегреческая практика, и ее мы и возродили. Все остальное время человечество занималось физическими упражнениями, а не спортом. Фехтование нельзя назвать спортом, если его цель — не стать чемпионом, а кого-нибудь убить или защититься от того, кто хочет убить тебя. Как и массовые игры, если они важны не сами по себе, а как часть религиозного праздника. Это предшествует спорту как религии, но не является ею.
Суть этой религии отчасти определяется тем, что в начале ХIХ века спорт был занятием аристократическим, а дальше оказалось, что простой человек из народа может путем труда и боли стать столь же совершенным, как аристократ, и даже совершеннее. Это соответствовало ценностям революционных режимов, и потому и Сталин, и Гитлер превратили спорт в государственную идеологию. Об этом много написано, для культурологии привычна мысль, что при тоталитаризме спорт ритуален. Однако почему-то принято считать, что дальше спорт освобождается от идеологической функции.
Да ничего подобного! Для либерализма спорт — такая же религия. Вовсе не случайно американский яппи отправляется в спортзал в пять утра, чтобы успеть два часа посамоистязаться перед работой. Спорт — это конкуренция, зримое выражение того, что путем конкуренции человек восходит к сверхчеловеческому состоянию. В спорте адепты конкуренции видят свой путь к откровению. Они доказывают — и делают это ежедневно,— что Адам Смит был прав, и булочник, выпекая хлеб в конкуренции с другими булочниками, таки создаст булочки «Нектар» и «Амброзия», вкусить каковые можно лишь в раю.
Спорт демонстрирует все особенности развития большого культа. Есть главный ствол — как вот чемпионат мира по футболу — с большими праздниками, миллионами последователей, продажей сопричастности — гигантской индустрией спорта. Есть сектанты — фитнес-клубы, йога, пилатес, боевые искусства. Они идут к совершенству своим путем и, как правило, отрицают ценности главной ветви, обнаруживая там массу роковых изъянов. Есть люди, отрицающие как секты, так и главную линию из-за их коммерциализации,— джоггинг, футтинг, стрит-тренинг. Это что-то вроде нищенствующих орденов — они пытаются вернуть вере ее изначальную чистоту, искаженную официальной церковью и сектами.
Постхристианские религии принято дискредитировать сравнением с первообразом, обнаруживать их еретическую природу и тем самым упрекать в служении злу. Но на самом деле спорт — это зримое преображение города. Он не привязан к какому-либо месту в городе, он может происходить везде, хотя, конечно, больше тяготеет к местам, семантически связанным с раем — паркам, садам, бульварам. Однако он преображает среду в целом, поскольку в каждом месте он указывает, что люди здесь и сейчас признают себя несовершенными и стремятся к совершенству. И когда в каком-нибудь городе в семь утра ты вдруг обнаруживаешь толпу людей, одиноко (с наушниками в ушах) бегущих по набережной, то это столь же странное и впечатляющее зрелище, как коллективная молитва. Они бегут от смерти к совершенству.
Я вижу один недостаток в этой религиозной практике. Спорт — постхристианская религия, она основана на признании мира несовершенным и стремлении к миру горнему, однако в ней есть нехристианский смысл. Возрождение древнегреческой практики было связано с тем, что в течение предшествующих ХХ веку 400 лет Европа была зачарована античностью, причем это массовая зачарованность, внедряемая школьным образованием. Однако древнегреческий атлет не был горожанином, и из-за этого в спорте в его сегодняшнем виде мало собственно городских ценностей. Мы с нашей средой обитания не можем стать совершенными вместе с нашими крышами и лестницами, барьерами и подземными переходами, нашим колющим, режущим, угловатым техногенным пространством. Нельзя спастись на тротуаре — для этого нужно найти траву.
Поэтому, я думаю, в будущем нас ждет расцвет спортивного протестантизма — массовое развитие городских, экстремальных, техногенных видов спорта. Паркур, скейт, урбан-сайклинг, акрострит, билдеринг и т.д. Последователи этой религии будут проповедовать преображение урбанистического пейзажа и представлять себе рай в виде металлоконструкции. И кстати, они могут перетянуть на свою сторону зимников как не существовавших в античности. Возможна великая схизма.
 Три типа горожанина
Три типа горожанина

Фото: Reuters
Во времена политического нестроения 12 года, когда на Поклонной собирались сторонники власти, а на Болотной наоборот, одна дама сказала мне: «Проблема в том, что все, что мы делаем, делается для человека с Болотной, а наш избиратель — на Поклонной». Из этого же противоречия возник вопрос о соответствии программы собянинских преобразований Москвы идеальному горожанину. Тут надо было разобраться, из каких он. Сергей Капков неожиданно для себя олицетворил преобразования для человека с Болотной и отправился в область политического небытия. Но его образ горожанина не пострадал, напротив, ему была адресована грандиозная реконструкция Москвы 2013–2017 гг.
Этого горожанина с легкой руки Юрия Сапрыкина называют «хипстером». Запрос на общественные пространства, в которых можно просто проводить время, не проявляя ни деловой, ни потребительской активности, декоммерциализация (борьба с киосками, выдавливание магазинов роскоши), демократические городские кафе (вместо ресторанов), повсеместное распространение свободного Wi-Fi, озеленение, борьба с машинами и не вполне объяснимая любовь к велодорожкам — все это элементы одной системы ценностей. Каждую из мер по их внедрению в Москву по отдельности можно объяснить, не прибегая к слову «хипстер». Но их соединение вместе создает впечатление, что в Москве выборы выиграл бородатый татуированный студент с левыми зелеными убеждениями. Стоит ли говорить, что Сергей Собянин не таков. Ни в коей мере хипстер не был горожанином мечты для власти. Ее идеал, перефразируя название романа Айн Рэнд, можно обозначить формулой «комсорг расправил плечи».
Комсомольцы позднесоветского времени являли собой наиболее радикальный результат советского опыта воспитания «двоемыслия». Они свободно чувствовали себя в координатах глобальной молодежной культуры, но полагали, что активная поддержка мракобесия способна обеспечить их карьерный и материальный рост. Они конкурировали друг с другом за то, чтобы быть замеченными в этой поддержке, и, как и любая конкуренция, эта выбрасывала наверх наиболее законченные образцы. В 1990-е показалось, что этот тип ушел в прошлое, но теперь он, напротив, оказался востребован и возродился. Публичные патриотические и ксенофобские акции, погромы выставок, нападения на «врагов государства» с некоторого момента создают устойчивую новостную повестку жизни города.
В известном смысле это и был избиратель с Поклонной. Но что интересно — у него нет своего средового языка. В 2014-м на открытии Олимпиады в Сочи Константин Эрнст попытался создать такой язык — в виде парада русского государственного авангарда по маршруту от Стравинского до Гагарина. Это ритуальное шествие скрепляло расщепленное сознание комсорга — тут и прославление государства, и авангардные ценности всемирного модерна. Однако, несмотря на пропагандистский потенциал «Первого канала», духовная скрепа не приклепалась. Вместо этого власти предпочли корректировать излишне европейский образ общественных пространств Москвы методами «вторичного благоустройства». В общественные пространства инсталлировали орнаменты из ЦПКиО и ВДНХ времени борьбы с космополитизмом (1948–1953), отчего возник несколько эклектичный образ хипстера в косоворотке.
У нас нет выраженного культурного героя, вернее, эта фигура мало героизирована. Но если говорить о наиболее распространенном типе культурного поведения, то это, как мне кажется, «человек сети». В сетях происходит некая социальная жизнь, поиски ценностей и живые дискуссии, получившие обозначение «срач». Трудно сказать, какая среда нужна такому персонажу (он не вполне тождественен своему физическому телу — тут стоит вспомнить главного героя пелевинского «Снаффа» Дамилолу Карпова, неуспешное в физическом мире существо, переносящее любого рода активность и стремление к самоутверждению в сеть; но и хипстер, и комсорг ему равно отвратительны).
Итак, у нас есть три образа: хипстер, комсорг и «человек сети». Первый является горожанином, которому адресуют свои проекты профессионалы урбанистики, второй — идеалом власти, третий представляет собой то, что можно назвать культурным героем. Это не образ горожанина, а безумие. Но насколько это безумие есть специфика именно нашего времени?
Посмотрим на позднесоветское время. Профессиональный идеал архитекторов определяется легко — реконструирован Старый Арбат. Это было острое высказывание. Во-первых, пешеходная, во-вторых, улица. Пешеход, а не автомобиль, символизирующий дух прогресса и техники. Улица с красной линией, лавочками, фонарями, плиткой — полная противоположность спальным микрорайонам. Алексей Гутнов, придумавший реконструкцию Арбата, опирался на тренд антимодернистской реакции в архитектуре 1970-х (тот круг идей, который сложился в «новый урбанизм»). Пешеходные улицы, которые сегодня являются обыденностью любого европейского исторического города, тогда были еще модны. Мы даже не слишком опоздали в этом тренде — многие европейские города обзавелись ими уже после Москвы.
Было, однако, одно существенное отличие Старого Арбата от европейских пешеходных улиц. Те делались как торговые зоны, а на Арбате торговать было нечем, это была советская улица эпохи дефицита. Когда вы рассматриваете проектные перспективы гутновского Арбата, то видите, что люди там гуляют и поют, а больше ничего.
Новый урбанизм был неведом московским гражданам. Однако профессиональная парадигма была продана москвичам как репрезентация местного тренда — «старых арбатских ребят». Поэзия Окуджавы привела к тому, что именно Арбат был выбран для превращения в парадный портрет московской повседневности. И нельзя не заметить, что к 1980 году, когда Гутнов осуществил свой замысел, «старые арбатские ребята» уже не были культурными героями. Они разъехались из центра, местами обитания московской интеллигенции стали Останкино и Кузьминки, Химки-Ховрино и Беляево, и мифология была уже иной.
В том же 1980 году, когда открыли Арбат, появился роман Владимира Орлова «Альтист Данилов». Напомню, главный герой — это демоническое существо, которое живет в типовом доме в Останкино, работает альтистом и вместе с тем воспаряет в иные измерения, купаясь в молниях и приземляясь то в Испании, то в основании мироздания, где стоит большой синий бык. Этот образ интеллигента из панельной квартиры, дух которого носится по всему миру не вполне легально, но вполне вольготно,— он и был общекультурным типом времени с его невероятным по нынешним временам интересом к истории, философии, оккультным практикам и духовным исканиям. Арбат ему казался провинциальным, советским и убогим — сразу устаревшим. Это первый пример московского благоустройства, который продвинутые горожане не приняли так же, как и нынешние собянинские эксперименты.
Власти что арбатские ребята, что демонические существа были равно чужды. Однако тогдашнему герою власти в тот момент была свойственна известная душевность, далекая от радикального цинизма, который демонстрируют сейчас возродившиеся комсомольцы. Молодыми в геронтофилическую эпоху Брежнева считаются сорокалетние, и идеальным героем можно назвать Штирлица (напомню, что именно этого героя Глеб Павловский в конце 1990-х выдвигал на ролевую модель будущего президента России — и выдвинул). Это «трагический конформист», эффектно вписывающийся в официальную жизнь и вместе с тем несущий в душе нетленный образ родных березок. Средовая сложность этого персонажа в том, что он в своей душевной ипостаси — не горожанин, его идеальное пространство — природа, рыбалка, охота. Образцы среды для него проще найти в партийных санаториях, а архитектура «сияющего соцмодернизма» — обкомы и райкомы брежневского времени — в меньшей степени передает его сложную внутреннюю жизнь. Если только не принимать за ее воплощение облицовку каменной плиткой, к которой удивительно подходит определение Маяковского «мраморная слизь». Согласитесь, в слизи есть нечто сентиментальное.
Старые арбатские ребята, демоны и Штирлиц — не менее разношерстная компания, чем хипстер, «человек сети» и комсорг. Отправимся еще на 20 лет назад.
Профессиональный идеал эпохи 1960-х прост и понятен, как прямоугольник,— это Черемушки. Это город больших пустырей с редкими прямоугольными объемами разной степени стандартности. Источник моды прост и очевиден — большой послевоенный модернизм, победное шествие Ле Корбюзье с легким акцентом Нимейера.
К этому моменту воображение современников покорено геологом — в 1960 году выходит культовый фильм Михаила Калатозова «Неотправленное письмо», где герои бредут по тайге, выясняя личные отношения. В 1962 году Павел Никонов выставляет первую картину «сурового стиля» — те же «Геологи», проникнутые лирической мистикой Павла Кузнецова. В 1964 году в Большом театре даже был поставлен балет «Геологи» Владимира Василёва и Наталии Касаткиной.
Мне кажется, главным для профессионального идеала архитекторов был пафос покорения пространства как такового, пафос колонизации природы геометрией, и идеальный горожанин для них — колонизатор. Отсюда геологи. Это не вполне городской человек, в основном пребывает в состоянии «оторванности от дома». Но когда он возвращается, его радуют бескрайние районы пятиэтажек, широкие просторы лесопарков, заснеженные тракты Фестивальных улиц — контраст этой городской среды с тайгой не слишком велик.
Трудно сказать, однако, насколько этот герой является распространенным культурным типом. Как минимум он амбивалентен — в бардовской песне, самом демократичном способе приобщения к культурному содержанию эпохи, он постоянно дополняется как раз «ребятами нашего двора», которые станут профессиональным идеалом на 20 лет позже. А пока они если и работают геологами, то предпочитают возвращаться из экспедиции в свой переулок, а не на Профсоюзную.
Идеал власти — тоже скорее колонизатор, но это «комсомолец-целинник». Он отличается от последующих комсомольцев, в нем нет двоемыслия, он верит в коммунизм. На целине он не предается экзистенциальным переживаниям, которые случаются в тайге у геологов. Он там всегда в коллективе, всегда в работе или коллективном празднике.
Парень из нашего двора, комсомолец-целинник и геолог — сочетание этих троих не кажется столь безумным, как в следующих поколениях, они могут договориться и, скажем, вместе отправиться покорять новые земли. Но жить в городе им рядом трудно, идеалы одних полностью разрушают среду других.
Горожанин — это рынок, на котором продаются маски социальной идентификации. И это рынок, на котором предложение превалирует над спросом. Профессиональным идеалом становится тот образ горожанина, который был распространенным культурным типом в предшествующую эпоху. Миф Арбата для архитекторов 1980-х вырос из «старых арбатских ребят» шестидесятников, «геологи» 1960-х оказались реинкарнацией «колонизаторов» 1930-х. Хипстеры сегодняшней модернизации — это реализация утопии 1990-х, России, отказавшейся от советской власти и вследствие этого мгновенно превратившейся в нормальную европейскую страну вроде Португалии, догнать которую в начале 2000-х обещал нам президент. Поэтому профессиональный идеал, увы, устремлен не в будущее, а в прошлое, и апеллирует к горожанам, которых уже нет. При этом к культурным типам прошлого профессионалы подстраивают моды, которые рождаются из архитектурных трендов европейских стран. Так получается, что геологи 1960-х репрезентированы Ле Корбюзье, «старые арбатские ребята» становятся носителями «нового урбанизма», а хипстеры — проповедниками барселонского благоустройства. Для каждой из этих групп данное отождествление, осуществленное профессионалами, становится болезненной неожиданностью — «геологи» хотят вернуться в арбатский двор, а не в Химки-Ховрино, Окуджава не принимает реконструкции Арбата, а хипстеры проклинают «Стрелку» в фейсбуке.
Власти более или менее все равно, каким будет идеальный горожанин, ей важно ухватить того, который есть в реальности, и подстроить его под свою повестку дня. Но тот, который «в реальности», не поддается ухватыванию. И поэтому она покупает его субститут в виде профессионального образа горожанина и порождает с его помощью гибриды. В сегодняшней ситуации она покупает образ хипстера, чтобы замаскировать комсорга, который должен стать ролевой моделью для горожанина, убежавшего от реальности в сеть. Исходя из этого, можно предсказать, какой тип горожанина ждет нас в будущем. Профессиональным идеалом станет «человек сети» на улице, его дизайн-кодом — apple-среда, город виртуальных яблонь. На ветви придется подсаживать покемонов в виде двуглавых орлов.
 Музей
Музей

Фото: Reuters
Идеальная городская среда – это, скажем, исторический город, а в центре, скажем, парк, а в парке, скажем, музей. Музей — это creme de la creme городской среды. Кремль духовности. То есть так считается.
Сравнительно недавно произошла характерная история с Третьяковкой. Там задержали трех преподавателей исторического факультета МГУ за разговоры со студентами на выставке художника Василия Верещагина. За разговоры о картинах Верещагина — они были квалифицированы как несанкционированная экскурсия. Преподаватели возмутились и даже подняли волну общественного негодования, которая, однако, быстро схлынула. Третьяковская галерея провела публичную дискуссию с общественностью, где заместитель гендиректора музея Марина Эльзессер рассказала, что только так и нужно делать, что это делают все музеи в мире — и будут делать дальше, а собравшиеся в основном полностью поддержали позицию, а пару-тройку несогласных можно не брать в расчет.
Мне лично позиция Третьяковки представляется более или менее спорной, но я не хотел бы ставить ее под вопрос, поскольку мне кажется, что это должно быть компетенцией суда. Предметом рассмотрения которого должен быть объем гарантированных Конституцией прав граждан на доступ к произведениям искусства в государственном музее, существующем на налоги — их же, граждан, налоги.
Меня тут интересует другое. Считая музеи creme de la creme городской среды, мы всячески расширяем их присутствие в городе — передаем им окружающие пространства, обустраиваем их, придумываем «музейные кварталы», где среда вокруг одного музея должна плавно перетекать в среду другого, и в качестве идеала даже задумываемся о том, чтобы сделать исторический центр города своего рода тотальным музеем на открытом воздухе. Но все идеалы современного города прямо противоречат идеалам музея.
Возьмите хотя бы Крымскую набережную, где, правда, гениальные ландшафты, созданные четыре года назад Анной Андреевой, заменены на пошловатые цветочки неустановленного генезиса. Но, так или иначе, это едва ли не лучшее общественное пространство Москвы. Так ведь там что происходит? Люди лежат на газонах, ездят на скейтах, велосипедах, роликах, и не только разговаривают между собой, но даже поют. Там даже иногда прямо из мостовой бьют фонтаны-шутихи, и по итогам посетители набережной позволяют себе прогуливаться в мокром виде. Уместно ли это там, где меньше чем в ста метрах находятся шедевры русского авангарда? Напомню, кстати, что Михаил Пиотровский в свое время блестяще провалил идею новогоднего катка на Дворцовой площади в Петербурге, мотивируя это неуместностью коньков ввиду живописных полотен.
Мне кажется, что если и дальше продолжать усиливать эффекты присутствия музеев в городе, мы придем к удивительному явлению «полицейской городской среды», патрулируемой объединенным нарядом сотрудников Росгвардии и музейных смотрительниц. Но это в гражданской сфере принято бороться постами морального беспокойства с обобщенной держимордою. Урбанистика предполагает иную стратегию: необходимо не бороться, но понять каждое сообщество, увидеть его интересы и мотивацию и устроить ему пространство уважения вокруг. И тут возникает, выражаясь психологически, интериоризация конфликта. Музеи ведь сами бесконечно активны в расширении своего влияния на среду, они как раз и есть первые в установлении friendly-стандартов, что внутри своих зданий, где повсюду Wi-Fi, кафе, коворкинги, лекции и дискуссии, что снаружи, где аналогичное благорастворение. Рискну предположить, что если бы не директор Третьяковки Зельфира Исмаиловна Трегулова, так, может, и Крымской набережной никакой не было бы, а уж без директора ГМИИ Марины Девовны Лошак точно никому бы в голову не пришло реанимировать старую идею о создании музейного городка вокруг Пушкинского музея. И те же музеи вводят в своих залах сугубую полицейщину, мотивируя это то ссылками на международный опыт, то сближением музея с храмом, где требуется вести себя возвышенно.
Больше того. В Россию волна музейных реконструкций пришла очень поздно и совпала по времени с трансформацией городской среды. А в других местах эти процессы шли не параллельно, а последовательно. Это реконструкция Лувра привела к появлению стандарта того городского центра, который теперь определяется термином mixed-use, когда вместе соединены транспорт, торговля, общественные пространства, аудитории, театр и т. д. Это музей в Бильбао превратил музей во всемирный аттракцион, когда оказалось, что город может управлять символическим капиталом и конвертировать его в реальную экономику. Музей был в течение 20 лет главной лабораторией для выработки ценностей и принципов городской среды, и лишь в последние десять лет это ценности и принципы были перенесены в парки, на улицы и площади.
А ничего удивительного нет в этом противостоянии и состоянии музея и города.
Коллекции музеев тонким образом связаны с грабежом. Дело это периодически всплывает, когда вдруг встают тени евреев, ограбленных фашистами, и начинают требовать свои вещи из американских музеев, или, наоборот, немцы начинают искать следы своих вещей в музейных запасниках России, или когда наследники Щукина и Морозова вдруг требуют арестовать импрессионистов из Эрмитажа и Третьяковки, или когда греки требуют вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея, или когда всплывает интереснейшая деятельность большевиков и их большого друга Арманда Хаммера по тайной продаже шедевров европейского искусства из советских музеев в американские, или когда вспоминают тот грабеж, который учинил в Италии и в Египте Наполеон, в результате чего образовалась великолепная коллекция Лувра, или...— этот список можно продолжать до бесконечности. Я уж не говорю о российских музеях, которые не отдельными вещами, а тотально, целыми коллекциями являются результатом, благородно выражаясь, экспроприации экспроприаторов, то есть грабежа личной, и частной, и общественной (церковной, например), и государственной собственности, приключившейся по-крупному в десятилетие после 1917 года, ну и сравнительно по мелочи дополненной по итогам репрессий и контрибуций позднее.
При этом музей — грабитель с презумпцией благородства. Когда возникает вопрос, не правильнее было бы вернуть то, что в него награблено, тем, кто пострадал, это, как правило, вызывает большие сомнения. Тема справедливости делает кульбит, и мы начинаем размышлять о том, справедливо ли, чтобы шедеврами человеческого духа владели частные фигуры, вместо того чтобы им быть общенародным достоянием. В нашей стране тема общенародности побеждает почти всегда в силу известных особенностей менталитета. Мы на частных коллекционеров смотрим с сомнением, из-за чего им все время приходится повторять, что со временем они, конечно, передадут свою коллекцию в музей, уж и завещание составлено, а общественность слушает с плохо скрываемым раздражением — в смысле, когда уж ты, так сказать, создашь подходящие условия для вступления завещания в законную силу. Но это не только нам свойственно.
Я вовсе не хотел бы призвать пересматривать эту позицию, а лишь высказываю предположение, что это механизм, встроенный в сам институт музея. Музей, каким мы его знаем,— наследие XIX века, века не только расцвета позитивного знания с его грандиозным упорядочиванием всех возможных коллекций, но и века заката просвещенного абсолютизма на фоне торжества капитализма. Музей по смыслу — это собрание вещей, изъятых из рынка, тех, относительно которых не действует вопрос, чьи они. Они — музейные. И это ответ просвещенных монархий на вопрос о том, почему они всем этим владеют. Потому что на самом деле они этим не владеют, это общественное благо, оно принадлежит всем.
Должен заметить, что российским музеям эта позиция свойственна пропорционально краткости срока тотального грабежа, в результате которого они образовались, по сравнению, скажем, с не менее предосудительными действиями Наполеона. Посмотрите на все эти шедевры, богатства и просто более или менее интересные вещи, которые составляют нашу коллекцию! Раньше они принадлежали царям, богатым людям, церкви — и вы никогда бы не смогли их увидеть (и это правда). Только благодаря тому, что они теперь наши, вы получили эту возможность. Пользуетесь же ей.
Это и есть основа некоторого безумия позиции музеев. Это — сокровищницы, и в качестве таковых они требуют особого протокола поведения. Легитимность сокровищ, право владения ими обеспечивается тем, что они находятся в общенародном доступе. Это все равно как если бы банк имел возможность хранить золотой запас только на условии, что он должен постоянно пускать туда людей с улицы, которые могли бы в любой момент удостовериться, что золото и правда там, а не вывезено в Америку. Куда деваться, банк бы пускал, но постоянно волновался бы, как бы что-нибудь не стибрили. Отсюда — группами не собираться, осмотр только в сопровождении сотрудников, а любой чужой человек, собирающий вокруг себя группу,— это красный уровень тревоги.
Отсюда более или менее понятно, что музей — это не часть города, но исключение из города. Это особая территория, что-то вроде пещеры Аладдина. Легитимность этой пещеры, даже попросту сохранность ее содержимого обеспечивается тем, что в городе все о ней знают и имеют право в нее зайти, но боже вас сохрани решить, что там ваши сокровища. Вы не владелец сокровищ ни в какой доле, вы — средство обеспечения легитимности пещеры. И будь все так просто, я бы предложил ни в коем случае не благоустраивать среду вокруг музеев и не пытаться сделать музей частью города.
Если бы не одно «но». Дело в том, что рядом с настоящими музеями образовались музеи современного искусства, всякие фонды, национальные галереи и т. д. Сначала в прошлое ушли царские дворцы и княжеские усадьбы, мы ограбили их владельцев и превратили все этой в музей, но теперь в прошлое ушел пролетариат, его заводы и фабрики, а там нечего грабить, кроме его цепей. Они массово превращаются в музеи, но в музеи, в которых нет сокровищ. Чем меньше в музее коллекции, тем активнее в нем социальная жизнь. Содержанием оказывается легитимность как таковая — роение людей, возможность делать что хочешь, любые акции, свободный обмен впечатлениями, идеями, эмоциями и т. д. Это, так сказать, территории для возгонки городской среды, содержанием которых является театр городского социума. Особые средовые территории. И эти паразиты на музейном теле, с одной стороны, создают примеры образцовой среды, а с другой — начинают влиять на легитимность традиционных сокровищниц. Потому что как же так: там можно, а здесь нельзя. Почему? В результате традиционные музеи начинают одновременно резко повышать градус свободы вокруг себя, показывая, как они востребованы, и одновременно усиливать режимные меры, потому что сокровищницы не могут существовать при столь высокой температуре городской свободы.
Коллекция музея — это исключение из обмена. Музей — это исключение из города. Но город — это легитимность для музея. И музей вырабатывает внутри себя и вокруг высшие формы города. Как из этого выбираться, непонятно.
 Театр
Театр

Фото: Reuters
Театр представляет собой довольно парадоксальное здание, который внутри себя содержит весь город сразу, и даже с пригородами,— и торжественные проспекты, и рядовые улицы, и сельские пейзажи. Витрувий, автор единственного трактата по архитектуре, который оставила миру античность, говорит, что в театре может быть три вида сцен: «Во-первых, так называемые трагические, во-вторых,— комические, в-третьих,— сатирические. Декорации их не сходны и разнородны: трагические изображают колонны, фронтоны, статуи и прочие царственные предметы; комические же представляют частные здания, балконы и изображения ряда окон, в подражание тому, как бывает в обыкновенных домах; а сатирические украшаются деревьями, пещерами, горами и прочими особенностями сельского пейзажа».
Город и происходит от этого театра. (При этом время от времени возникает неизбежная путаница, и в субурбии происходят настоящие драмы, а поведение сильных мира сего приобретает комические черты. Однако в смысле декораций уподобление города театру более последовательно.)
Себастьяно Серлио в трактате об архитектуре, который он писал в Венеции в 1520-е годы, напечатал свои рисунки этих трех витрувианских сцен. В это время Якопо Сансовино реконструировал площадь Сан-Марко, едва ли не самую известную площадь Европы, и она с тех пор более или менее и выглядит так, как он ее задумал. В свое время американский историк архитектуры Джон Онианс предположил, что Сансовино сравнительно точно воспроизвел «трагическую сцену» Серлио. Вероятно, каждому, кто проводил время на этой площади, знакомо ощущение участника массовки театрального представления — так вот не зря.
Связи ренессансной архитектуры с театром — более или менее классическая тема для историков архитектуры. Но, разумеется, число этих связей ничтожно по сравнению с градостроительством эпохи барокко, где едва ли не каждый городской ансамбль решался как театральная сцена. Есть отдельная большая литература о роли театра в эпоху Великой французской революции, герои которого ведут себя по лекалам Корнеля и Расина, эту тему любил Юрий Михайлович Лотман, доказывавший, что искусство не столько отражает жизнь, сколько ее моделирует. Самый известный иллюстративный образ театра эпохи великой революции — проект театра в Безансоне Клода Никола Леду, где сцена вписана в гигантское всевидящее Око, которое, таким образом, смотрит в зал (это Око потом смешно отозвалось в «Великом Гэтсби» Фицджеральда, где гигантский глаз в пустыне является офтальмологической рекламой). Театр здесь оказывается своего рода лабораторией Ока, проигрывающего разные модели мироздания. Столетие спустя целая эпоха в архитектуре Парижа, время Наполеона III и барона Османа, получит имя «стиль Grand Opera». Ну и среди историков русского авангарда более или менее общепринятым является тезис о том, что первоначально новая архитектура была опробована на сцене, прежде всего в постановке Александра Таирова честертоновского «Человека, который был Четвергом», декорации к которому делал будущий классик конструктивизма Александр Веснин. Так что театр — это спорадическая репетиция революции, как минимум урбанистической, но, может, и шире. Возможно, с этим связаны некоторые проблемы российского театра сегодня.
Однако в этом есть странность. Откуда такое фантастическое изобретение? Почему, собственно, городу понадобилось отдельное здание, внутри которого постоянно проигрывается драма города?
В истории театральной архитектуры мы обычно находим более или менее яркий рассказ о театре античном, а далее сразу о театрах XVII века. Не то чтобы в промежутке Средних веков театр не существовал, но он существовал иначе. В развитом Средневековье, с XII века и дальше, мы встречаемся с грандиозными постановками на темы прежде всего евангельских сюжетов, которые сопровождают церковные праздники. Однако местом их действия был весь город. Жители оказывались в промежуточной позиции между зрителями и актерами — они и смотрят действо, и участвуют в нем. В том случае, когда речь идет о последовательной фабуле — например, страстях Христовых,— каждая сцена проходит в своем помещении. «Тайная вечеря», «Христос перед Пилатом», «Бичевание» — это отдельные павильоны (иногда телеги), и когда заканчивается одна сцена, то зрители переходят к другой, как по улице от одного дома к другому. Сценой является иногда площадь перед собором, иногда улица, где лавки становятся сценами. Это немного похоже на сегодняшние трансформации сцены в последовательность комнат — как в «Sleep No More» Барретта и Дойла.
Помимо мистерий город был наполнен иными театральными или скорее зрелищными событиями, прежде всего торговыми ярмарками, которые редко обходятся без странствующих актеров или кукольного театра. Добавим сюда карнавал. Добавим сюда то, что великий историк Средневековья Йохан Хёйзинга называл «яркостью и остротой жизни», когда любой выезд сеньора, конфликт гордых рыцарей, шествие цехов, появление глашатаев, церковного иерарха или странствующих проповедников превращались в театральное представление. Город был наполнен театром, он весь представлял собой сцену — и драма, и комедия, и даже сатурналии могли происходить более или менее везде.
До известной степени это ощущение театральности присуще и современному городу, по крайней мере начиная со знаменитого пассажа Джейн Джекобс о «балете улиц». «Хотя это жизнь, а не искусство, хочется все же назвать его одной из форм городского искусства. Напрашивается причудливое сравнение его с танцем — не с бесхитростным синхронным танцем, когда все вскидывают ногу в один и тот же момент, вращаются одновременно и кланяются скопом, а с изощренным балетом, в котором все танцоры и ансамбли имеют свои особые роли, неким чудесным образом подкрепляющие друг друга и складывающиеся в упорядоченное целое. На хорошем городском тротуаре этот балет всегда неодинаков от места к месту, и на каждом данном участке он непременно изобилует импровизациями». Но по сравнению с настоящим театром ему присуще известное мелкотемье. Настоящие драмы, комедии и сатиры проходят в театре, а на улицах остается самодеятельное охвостье — дети ездят в колясках, торговцы открывают лавки, горожане, дожившие до пенсионного возраста, воркуют на лавочках.
Специалист подобен флюсу: с урбанистической точки зрения самое интересное в театре — как раз эта миграция города в здание. Она произошла более или менее случайно и уж никак не с целью создать специальное городское приспособление для того, чтобы «удвоить» город и в реальном городе иметь его образ. Первые театры Ренессанса и барокко создавались глубоко аристократическими заказчиками и их друзьями, учеными гуманистами, для того, чтобы «восстановить» античную драму, дошедшую в текстах, но не в реальном обиходе, и создать новую по образцу античной. Античный театр располагался вне черты города и должен был вмещать в себя всех его граждан — это было принципиально иное приспособление. Но это совершенно не предполагалось в ранних театрах Нового времени. Там не только сцена изображала улицу (одну из трех сцен Витрувия), но и занавес должен был изображать тот вид, который зритель видел на площади, выходя из здания. Этот театр с самого начала встроен в город.
При всей исключительности европейского театра как культурной институции можно заметить, что это перемещение города в одно здание происходило не только с ним. Вначале была городская площадь и улицы вокруг. И на этих улицах располагались мастерские ремесленников, где во дворах работали кузнецы и горшечники, булочники и портные и прочие, прочие, прочие. И на этой площади торговали и ели, танцевали и обсуждали городские дела, выступали жонглеры, проповедники и мэры. Постепенно каждая из этих функций созревала до того состояния, что срывалась из города и уходила в отдельное здание. Вместо мастерских появились фабрики. Вместо обсуждения дел на площади возникли парламенты, вместо еды на площади — рестораны, вместо торговли — универмаги. Последним, кстати, уже более или менее на нашей памяти, с площади удалился и закуклился в отдельное здание цирк, а на подходе здания для митингов и демонстраций. Но театр был первым таким экспериментом.
Театральными зданиями принято восхищаться, это важная городская достопримечательность, а в силу того, что там происходит внутри, иногда — и общенациональное достояние. Но если присмотреться к нему, то это вообще-то на редкость несуразное здание. Поэтому каждый конкурс на реконструкцию театра или на строительство нового оборачивается бесконечным тягомотным унижением всех участников процесса, начиная от главного режиссера, дирижера или директора, который влюблен в свою мечту и никак не может понять, отчего архитекторы рисуют ему такую мерзость, и кончая архитектором, который пытается создать более или менее гармоничный образ для абсурдного процесса.
Театральное здание устроено как верблюд-дромадер, во второй трети его всегда высится горб сценической коробки. Это место, где находятся декорации, которые надо опускать и поднимать, чтобы менять сцены. Минимально оно в полтора раза выше, чем само здание театра, а бывает и в два с половиной. В сегодняшних театрах, где приняты объемные декорации, их уже не только поднимают вверх, но сдвигают вбок, так что рядом с основной сценической коробкой возникают по две запасных — это как разожравшийся верблюд-дромадер, у которого расперло бока. Горб и бока театра — это, собственно, и есть хранилище виртуальных образов города, коробки для хранения идеалов и утопий, откуда их, протерев пыль, достают на время, чтобы прожить на сцене. Кстати, в самом имени дромадера слышится что-то общее с драмой, их буквально выдергивают из запасов его горба. Зрительный зал слишком мал по сравнению с этими хранилищами мечты, и чтобы их как-то уравновесить, приходится его задирать вверх рядами ярусов, так, чтобы на последнем было уж вовсе ничего не видно и не слышно. Чтобы добираться до них, необходимо сооружать сложную систему лестниц, поэтому, входя в театр и ожидая увидеть фойе, вы, может, и не осознавая этого, оказываетесь, по сути, на распределительной лестничной площадке, где всегда толкотня и непонятно, куда идти. Особенно эффектно там смотрятся дамы в вечерних платьях и бриллиантах — архитектура производит в них очаровательную растерянность. А ведь есть еще и театральный буфет, отдельное развлечение, которое никогда не находится там, где ты ожидаешь его найти.
Зал ниже сценической коробки, а вход меньше зала, поэтому каждое театральное здание приходится снабжать огромным портиком, прикрывающим всю эту конструкцию. Портик всегда раздут, но всегда меньше, чем располагающаяся позади сценическая коробка,— это архитектурное выражение комплекса неполноценности, когда, как в детстве, ты, чтобы прочесть стишок, становишься на табуреточку, весь раздуваешься, орешь как можешь, и все равно видно, видно, как ты безнадежно мал и ничтожен.
И вместе с тем это изобретение для фантастической возгонки переживания городского пространства. Причем она произошла с невероятной скоростью: от первых ренессансных пьес, в беспомощности которых даже нет очарования (вроде тех, которые писал Лоренцо Медичи), до Шекспира прошло каких-то ничтожных сто лет. А дальше — дальше же изобрели оперу, и степень интенсивности переживания возросла в сотни раз. Да, конечно, средневековые мистерии были, вероятно, захватывающими, но они же не представляли себе, что все это переживание дыхания, эмоции, движения, времени — проживание жизни — не случайно, гармонично, имеет некий смысл, и этот смысл прекрасен. Это не может не стать моделью всего города, жизни, и когда Вагнер придумывает Gesamtkunstwerk, «совокупное произведение искусства», которым является опера, а должно быть все вокруг,— это, конечно, гениальная утопия, но одновременно и чувство любого человека, который выходит из театра, смотрит на город, и в зданиях, улицах, площадях, людях видит продолжение только что пережитого, только какое-то недоделанное, недоведенное, нуждающееся в преобразовании.
Универмаги, вокзалы, здания парламентов, всемирные выставки — все это следование по тому пути, который был открыт театром, все это изобретения для интенсификации города. Театр сегодня кажется институцией более или менее традиционной, но на самом деле это результат модернизации, инструмент интенсификации переживания, и его эффективность по сравнению с городом примерно такая же, как у завода по сравнению со средневековой мастерской. Это фантастический, можно сказать, первый инструмент городского прогресса — поэтому всякая модернизация сначала проигрывается на сцене. Это станок по производству города. Вероятно, поэтому он так уродливо выглядит.
 Фабрика
Фабрика

Фото: Reuters
В 1790 году предприниматель Ричард Аркрайт соединил паровую машину Джеймса Уатта (созданную в 1769-м) и прядильную машину Джеймса Харгривса (1764) в одну систему и создал фабрику в Кромфорде. Это, конечно, условная дата рождения фабрики, можно найти и другие. Но новация Аркрайта имеет преимущества для понимания феномена.
Прядильные машины и ткацкие станки стояли в мастерских ремесленников в городах Италии, Англии, Бельгии, да везде в Европе, как минимум с XII века, когда возродились города. Они располагались во дворах, внутри кварталов — на улицу мастерская выходила лавкой, в глубине было производство. Фабрика вытащила производство из каждого двора, собрала вместе и поместила в отдельное здание. Примерно так же, как до того, в XVII веке, театр собрал со всего города происходившие на площадях и улицах мистериальные драмы и представления и поместил их в отдельный ангар. Но с той разницей, что здесь было собрано нечто непубличное, скрытое в глубине, то, что город не предъявлял себе самому,— зады.
Город уже был, фабрика собирала производства из городских мастерских в новое здание на отшибе. Оно располагалось на границе города, на периферии. Удивительным образом этот привкус сохранился даже тогда, когда стали строить города, в которых завод был главным смыслом их существования. Тони Гарнье, автор книги-манифеста «Индустриальный город» (1917), разделил свой город на две части вдоль дороги — с одной стороны завод, с другой — жилой район. Части равновесны, занимают примерно одинаковую территорию, и все равно жилые кварталы (или микрорайоны) воспринимаются как город, а промзона — как фабричная периферия при нем. По модели Гарнье выстроены сотни советских городов. Фабрика — это всегда окраина, всегда сбоку.
Фабрика — это прежде всего приспособление для производства, инструмент, орудие труда, и в качестве такового оно имеет свою историю и смысл, инженерный и экономический. Но с городом она взаимодействует не только через товары и деньги. Она создает смыслы, хотя в силу того, что это побочный продукт производства, эти смыслы не вполне высказаны и остаются на уровне неартикулированной мифологии.
После окончания индустриальной цивилизации в зданиях цехов стали делать музеи современного искусства. Это очень проявило сходство цеха и храма. Протяженные пространства с уходящей вдаль перспективой, ритм промежуточных столбов, несущих ажурные фермы перекрытий, свет сверху, из шедовых окон, отдаленно напоминающих окна клеристория,— все это кажется модернизированной базиликой. И как в базилике каждое место устремлено к алтарю, так и в цеху каждая площадка встроена в движение, только двигались не люди, но изделия. Вещи — они не сами по себе, они — метонимии социального взаимодействия, фетиши коллективности. В этой оптике производство выглядит как ритуал индустриального культа.
Культ потерян, и потерян куда основательнее, чем традиционные религии. Но его легко реконструировать. Мы знаем схожие с базиликами производственные пространства и до революции Аркрайта — скажем, венецианский Арсенал, законченный в XVI веке. Что заменяло в них паровую машину и станки? Технология строительства кораблей, которую историки производства любят называть «первым конвейером». Не так важно, какой она была, важно, что она была тайной. Попытка выяснить или выдать тайны изготовления кораблей каралась смертью.
Средневековые ремесленники берегли тайны производства, которые представляли собой нечто среднее между технологическими рецептами и магическими формулами. Замечательный российский медиевист Дмитрий Харитонович в числе ингредиентов средневековой рецептуры упоминает пепел василиска, кровь дракона, желчь ястреба, мочу рыжего мальчика — в его формулировке «производственный акт ремесленника мог рассматриваться как осколок некоего магического ритуала». Технология производства кораблей — из того же ряда. Посредством неких тайных и непостижимых операций рождается то, чего раньше не было,— в этом есть привкус чуда. Так вот, паровая машина заменила ритуал. Сложное, непостижимое, живущее своей жизнью нечто, которое подчиняет себе физический мир.
Это проясняет культурный статус машины. Она — овеществленная магия, автомат, адская машинка.
Эрик Хобсбаум показал, что европейская революция имеет два извода — французская социальная и английская промышленная,— но при этом перед нами одна революция, направленная на тотальную модернизацию общества. Это единство приводит к парадоксальным тезисам. Скажем, к идее, что технического прогресса можно добиться путем свержения режима и казней аристократии. Или, напротив, что прогресс техники и технологии приводит к установлению социальной гармонии. И то и другое недоказуемо и даже скорее противоречит наблюдаемым фактам, что не смущало адептов революции.
Это предмет веры, религии индустриального прогресса. «Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения,— какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда!» — говорят Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии». Здесь важно не только восхищение прогрессом, но и ощущение, что дух его дремлет в недрах, сокрытый и неразбуженный. Здесь вспоминается сценография к фильму Фрица Ланга «Метрополис», где все производство скрыто под землей, в недрах города, напоминающих руины Пиранези.
Итак, на окраине города располагается здание, внутри которого происходит некий процесс рождения вещей, управляемый машиной. Здесь есть нечто от фантастических антиутопий, но я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле это простая реальность, явленная нам в сотнях городов. Это как раз и создает эффект невысказанной мифологии — миф вот он, он прямо в структуре города, стоит просто обратить внимание на структуру пространства. Фабрика — не город, она альтернатива городу. Это особая окраина — она рациональна.
В традиционном городе свет Разума обычно сияет над главной дворцовой или соборной площадью и постепенно теряется в интригах улиц на периферии. В индустриальном городе, наоборот, старый центр романтичен своей иррациональностью, зато периферия — это сон учителя геометрии. Здания — одинаковые прямоугольники, между ними — одинаковые отрезки, все под прямым углом. Каждый объем не имеет смысла сам по себе: он элемент технологической цепочки. В городе N дом Петровых может просто стоять рядом с домом Бошировых, не иметь к нему никакого отношения, оскорбляя разум стороннего наблюдателя отсутствием между ними связи. Фабрика — территория, где цех холодной ковки железно связан с цехом отливки и одно не имеет смысла без другого. Мир приобретает вещественную связанность, и его смысл — бесконечное увеличение блага в форме «больше чугуна и стали на душу населения в стране».
Не совсем понятно, нужна ли фабричная окраина городу — своей структурой и архитектурой он, как правило, ее не замечает или боится. Но окраине нужен город — для того, чтобы зримо перерабатывать глупость и хаос настоящего в прекрасную рациональность будущего. Настоящее может быть разным — старым городом, избами и бараками, землянками и палатками, как на первых стройках первой пятилетки. Различия не важны, важно, что это материал для производства светлого будущего.
Вообще светлое будущее достигается разными путями. Можно путем уничтожения людей, которые для него не подходят, можно путем молитвы, можно — медитации. В конце концов его можно просто купить в случае, если где-то его уже построили, обменяв, например, на его безопасность от нашей архаики. Но будущее можно просто производить на фабрике. Все цеха связаны между собой, все фабрики связаны другом с другом, каждая постепенно расширяет вокруг себя поле рациональности. Вся страна превращается в единую гиперфабрику — это, собственно, и был идеал Госплана СССР. Вся страна превращается в рациональную окраину, альтернативу всему остальному миру.
И ведь этот поразительный замысел производства будущего на фабрике — он удался. Фабрика перестроила наши города. По образцу фабрики мы построили типовую школу — завод по переработке детей в граждан, типовую больницу, детсад и т. д. Ле Корбюзье называл дом «машиной для жилья», но типовые индустриальные дома правильнее называть «цехами для жилья» — они продолжают геометрическую логику фабрики. Квартира в типовом индустриальном доме — это наш национальный тип жилья, такой же, как таунхаус в Великобритании или коттедж в Америке. 70% городской жилой застройки в России — индустриальные типовые дома, городское население России сегодня — 80%, это означает, что в типовой жилой ячейке в цеху для жилья у нас живет 56% населения, больше, чем каждый второй. Все это пространство имеет смысл, пока фабрика, которая все это создала, продолжает работать и производить будущее. Но если она встала, то смысл теряется. Это пространство рациональной окраины, магия рациональности которой потеряна.
Все равно как если в списке ингредиентов, которые необходимы по рецепту, отсутствует что-нибудь главное — пепел василиска, скажем. И вроде бы все работает, крутится, но без толку — изделие не получается, заклинание не работает. Этот диагноз более или менее очевиден всем. Стоит, однако, задуматься над тем, как будет реагировать фабрика и весь произведенный ею мир на эту утрату. Каждым станком, каждым цехом, каждым домом, каждым элементом пространства она будет требовать — запусти машину! Восстанови заклинание! Достань мочи рыжего мальчика! Что мы и делаем.

 Улица
Улица