Универсальный примат
Как обезьяны служат российской науке
Россия – родина слонов, но обезьяны у нас в природе не живут. Зато работают: заменяют собой людей в опасных экспериментах и медицинских исследованиях.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ / купить фото
Ничем не примечательный поселок под Адлером, почему-то названный Веселым, по меркам большого города — глухое, хотя и зеленое место у побережья Черного моря. Здесь, в пяти километрах от Олимпийского парка, работает единственный в России экспериментальный НИИ медицинской приматологии РАМН, изучающий медицинские проблемы человека на обезьянах.
Местные капуцины, макаки, мартышки, павианы — всего 23 вида и подвида обезьян — живут главным образом в небольших открытых клетках. В каждой — автопоилки, отапливаемые домики («Газпром» постарался), в которых зимой не ниже +23С, ящики для еды, которые приматы ловко открывают при виде людей.
Есть и большие вольеры, где живут стадами. Это обезьяны для приплода и развлечения туристов, которые могут сюда попасть, купив билет за 400 руб.
Приматы, привлекаемые к медицинским экспериментам, содержатся отдельно в двух лабораторных корпусах. Туристам к ним доступ закрыт.

Туристы — один из дополнительных источников дохода сухумского питомника
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Дикари, как мы
Когда попадаешь в институт, тебе напоминают, что обезьяны — вообще-то дикие животные, хотя и зовут их Сергеем или, допустим, Настей. Всегда в движении, постоянно что-то исследуют. Дерутся, кричат, таскают у зазевавшихся туристов очки и телефоны (у фотографа «Коммерсанта» макака с острова Ява попыталась увести фотокамеру).
На набережной в Сочи предприимчивые граждане предлагают сфотографироваться с «милыми и спокойными» приматами.
«Примерно 80% таких обезьян находится под воздействием транквилизаторов. Они там, бедолаги, как овощи, ничего не соображают. Так не должно быть у обезьян. Никогда с ними не фотографируйтесь», — просит старший экскурсовод Анаида Арамовна. У нее след от укуса на руке — не успела ее отдернуть, когда давала обезьянам лакомство.

Адлерский питомник — одно из обязательных развлечений отдыхающих в Сочи
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
«Держи, чудище, не укуси только»,— экскурсовод передает дольку яблока самцу Георгию, бурому макаку, самому сексуальному, как здесь считают, виду.
Георгий не просто стар, а суперстар — ему 22 года, по человеческим меркам — за 70. У него шикарная окладистая борода, взгляд и осанка бывалого. Поспеть за молодой женой он уже не в состоянии, и та первой забирает яблоко, за что Георгий пытается ее наказать. У обезьян жесткая иерархия: если самка не слушается самца, то он ее кусает.

Несмотря на всю схожесть с человеком, обезьяны — это дикие животные и легко могут укусить руку дающего
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Как и люди, обезьяны порой бросают малышей. Причины — нет молока или ребенок слабый (говорят, это естественный отбор). В природе брошенные дети погибают. В институте их растят люди. Воспитательница обезьяньих ясель, дородная женщина предпенсионного возраста, повстречалась нам в Сухуме, куда мы позже заехали посмотреть абхазский НИИ экспериментальной патологии и терапии ААН. Именно из этого института после грузино-абхазской войны в девяностых вышел российский НИИ медицинской приматологии РАМН.
«Его зовут Гоша, макак яванский,— поясняет Татьяна, ухаживающая за обезьянами на склоне горы Трапеция, где среднегодовая температура, как говорят, +15°С.— Мамка бросила, потому что нет молока. Он у меня дома живет. А где он будет жить? Кормлю через каждые два часа».
Деньги на это она зарабатывает, предлагая туристам сфотографироваться с Гошей: «Всего 100 руб.».
Татьяна работает в сухумском институте десять лет, за эти годы, по ее словам, она выкормила 15–20 обезьян (всего их там 600). В Абхазию приехала из Нижнего Новгорода, выйдя замуж за местного русского: «Здесь тепло, только воду по часам дают».

Сотрудница сухумского питомника Татьяна воспитала уже несколько десятков малышей, от которых отказались матери
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Кажется, она в полной мере ощущает себя мамкой, по-хозяйски расхаживая от клетки к клетке. «Вот сидит Петька, я его тоже вырастила, хороший мальчик,— показывает Татьяна на молодого макака.— Тоже маленький был дурачок».
Петька при виде мамки зачарованно замер, потом принялся сосать свою ногу. «Дурак ты глупый,— бросает ему Татьяна.— Тебя уж женили, а ты все палец сосешь».
Аналогичная ясельная группа есть и в адлерском НИИ медицинской приматологии РАМН. «Это сиротки, у них нет мамочек, их вырастили люди,— рассказывает Олег Вышемирский, заместитель директора института по науке.— Нашими исследованиями показано, что все-таки не совсем адекватными они вырастают. Из них получаются плохие мамы и папы, видимо, потому что не видели этого всего, когда росли. И это проблема».
Модель для исследований
Произошел ли человек от обезьяны, или это две параллельные ветви эволюции, идущие от общего предка,— вопрос дискуссионный. Точно одно: ближе обезьяны у человека в природе никого нет. Наши геномы совпадают почти на 98%. Человек, случись что, за помощью обращается в первую очередь к родне. Наш ближайший в животном мире «родственник» нас не раз спасал.
Обезьян используют как для фундаментальных исследований, так и для проверки безопасности лекарств. Необходимость последней часто обосновывают, поминая трагедию с талидомидом. В 60-е годы в Германии его назначали беременным женщинам как успокоительное. Перед тем как препарат выпустили в продажу, ученые получили прекрасные результаты в опытах на крысах. Но женщины стали рожать уродов, тысячи детей погибли. «Проверили на беременных макаках и получили то же самое»,— отмечает профессор Виолетта Агрба, заведующая лабораторией иммунологии и биологии клетки НИИ медицинской приматологии в Адлере.

Человеку нравятся обезьяны, потому что они похожи на людей. Известно ли об этом сходстве обезьянам, наукой не установлено
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
С тех пор ВОЗ предписала, что все препараты для беременных и детей должны проверяться на приматах. «Это наш лабораторный двойник, схожий с человеком по многим анатомо-физиологическим параметрам,— поясняет Виолетта Агрба.— Поэтому то, что мы получаем на обезьянах, с минимальной коррекцией можем рекомендовать в практику для доклинических испытаний и дальше».

Ни одно лекарство для детей и беременных не может быть запущено в производство без проверки безопасности на приматах
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Без этого и клинические исследования на людях заканчиваются, бывает, трагически. Последний такой случай произошел в 2016 году во Франции, где проверка болеутоляющего средства на основе конопли привела к тяжелым побочным эффектам и смерти добровольца. Аналогичный случай был в начале нулевых в Великобритании.
«Сейчас в онкологии целая революция — появление моноклональных антител,— рассказывает Олег Вышемирский.— Их как бы адаптируют к человеческому организму, но допускать к испытанию на человеке можно только после того, как они пройдут испытание на обезьянах. Испытания на кроликах, мышках, крысах, собаках ничего не дают, потому что человек — это другая модель. И вы знаете, тут даже был случай в Москве:
молодые ребята разработали моноклональный препарат для лечения онкологического заболевания и решили испробовать его на себе, ну и пять трупов. Это нигде не публиковалось, но мы знаем».
«На сегодняшний день без исследований на приматах обойтись невозможно, потому что в противном случае первое применение любого лекарственного препарата будет нести очень серьезные риски для здоровья пациентов»,— говорит Роман Иванов, вице-президент по исследованиям и разработкам российской фармкомпании Biocad. Благодаря таким испытаниям на обезьянах компания вывела в 2014 году на рынок препарат Ацеллбия (ритуксимаб), применяемый при лечении онкозаболеваний.
У Biocad, по словам Иванова, было два случая, когда после исследований на обезьянах компания прекратила дальнейшую разработку препаратов.

Помимо научных исследований в НИИ приматологии занимаются проверкой медпрепаратов по заказу фармкомпаний
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Обезьянок жалко
Когда сегодня люди слышат про «опыты над обезьянами», это вызывает вполне понятную реакцию: от жалости и сочувствия до осуждения и даже злости на людей.
Однако в этой сфере действуют жесткие правила биоэтики. Институт сформулировал их еще в прошлом веке. Прежде всего, медицинские исследования не проводятся на человекообразных обезьянах.
Еще в 60-е профессор Борис Лапин, основатель сухумского института, хотел открыть отдел высших приматов, купив двух гориллят — Болу и Хана — и трех шимпанзе. Но вскоре пришлось отказаться от этой идеи. Пришли к выводу: аморально использовать человекообразных приматов. Ну разве что в психологических экспериментах.
Принципы использования обезьян в медицинских целях довольно жестки. Делать это допустимо при решении действительно важных задач или когда нет альтернативы, позволяющей получить корректные результаты. Нельзя проводить исследования на обезьянах, видам которых угрожает исчезновение, а также на животных, выросших в природе.
Именно поэтому в Абхазии, в 30 км от Сухума, в селе Тамыш, институт открыл первый питомник обезьян. Затем в 1981 году под Адлером в селе Веселое у реки Псоу открылся второй. Это и помогло сохранить хоть что-то от разбитого войной института, в котором из 3,5 тыс. обезьян осталось 150.
«Вот так вот»
НИИ медицинской приматологии РАМН под Адлером — единственный в России институт, который обеспечивает исследования на приматах для всех госучреждений и коммерческих компаний. То, что институт еще существует,— достижение научного коллектива и академика Бориса Лапина, которому в этом году исполняется 96 лет.
Начиналось все с сухумского питомника, который открыли в 1927 году по указу наркома здравоохранения Семашко.

Во многом и сухумский, и адлерский питомники существуют благодаря академику Борису Лапину, который, несмотря на свои 95 лет, продолжает работать
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Олег Вышемирский рассказывает:
«Сделали это, чтобы подсаживать семенники обезьян престарелым большевикам. Читали “Собачье сердце”? Это же на самом деле было. Подсаживали. Я знаю, что в Париже семенники шимпанзе подсадили ста мужчинам».
В Сухуме, правда, до таких операций не дошло. Питомник позже преобразовали в медико-биологическую станцию АМН СССР, затем — в полноценный исследовательский институт.
«На обезьянах можно было воспроизводить многие заболевания человека, что представляло большую ценность,— вспоминает Борис Лапин, начинавший там работать после окончания мединститута.— Поскольку на этих моделях можно было испытывать медикаментозные средства, средства профилактики, вакцины».
В 30-е годы ученики Павлова в Сухуме начали исследования по физиологии высшей нервной деятельности. Благодаря абхазским обезьянам в СССР, в частности, появился свой пенициллин.
В 1953-м заместителем директора, а позже директором биостанции стал Борис Лапин, при котором она превратилась в мировой центр приматологии — самый старый и самый большой в мире.

Медицина очень многим обязана хвостатым пациентам, которые заменяли человека во время рискованных экспериментов
Фото: РИА Новости
«Это был институт высшего класса, по образу и подобию которого строились приматологические учреждения в разных странах,— вспоминает Борис Лапин.— Помню, в 1956 году принимал американскую делегацию видных ученых. Ее руководитель, советник президента Эйзенхауэра, сказал: “Знаете, профессор, мы были бы счастливы, если бы имели такое учреждение в Америке”».
В 60-е годы американцы построили восемь аналогичных государственных центров, только, говорит Борис Лапин, больше и лучше. Профессор активно в этом участвовал, ездил, консультировал, читал лекции.

В 70-е годы сухумский питомник стал мировым центром приматологии
Фото: Григоров И./Фотохроника ТАСС
Сегодня в США приматологические центры и лаборатории есть у фармкомпаний, в армии и флоте, при университетах, обезьян разводят коммерческие компании. По подсчетам академика Лапина,
«общее количество обезьян в США — около 100 тыс. Вот так вот».
В 1981 году он открыл в селе Веселое питомник, где выращивали обезьян для нужд института. После начала грузино-абхазской войны в 1992 году ему с коллегами удалось спасти из Сухума кое-какое оборудование и перевезти его в питомник. Сейчас костяк ученых российского НИИ — это те, кто работал в Абхазии. И, хотя война закончилась 14 лет назад, институт так и не восстановился — не только в Абхазии, но и в России.
«Наш институт в Сухуме был самым старым и самым большим приматологическим учреждением в мире,— вспоминает Борис Лапин.— Нам еще далеко до сухумского института. Далеко. Вот так вот».
Космический эксперимент
В 80–90-е институт регулярно отправлял в космос обезьян — после этого ни у сухумского, ни у адлеровского института своих «космонавтов» не было.
По программе «Бион» с 1983 по 1996 год в космосе побывало 12 макак, все вернулись живыми, а один из «космонавтов», Крош, после полета прожил еще 17 лет.
Дорогая космическая программа была запущена не просто так. «Это было время, когда космонавты на длительное время отправлялись в космос,— вспоминает Зураб Миквабия, директор сухумского НИИ экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.— И оказалось, что в организме происходят большие изменения, которые не планировались. Изменения в опорно-двигательном аппарате, органах кроветворения, вымывание кальция из костей. При возвращении космонавта, если он там пробыл четыре месяца, восстановление занимало до года. Долгое время он практически не мог ходить. Пришлось вернуться к животным».

С середины 80-х по середину 90-х 12 макак из сухумского питомника стали космонавтами
Фото: РИА Новости
Четыре полета готовились сухумским институтом, последние два — здесь, в Адлере, уже после грузино-абхазской войны, в результате которой институт был почти полностью разрушен. Но руководил ими, по сути, один человек — Лапин.

Участие в космических исследованиях еще не так давно были одним из главных направлений работы НИИ приматологии
Фото: Getty Images
Последние полеты, отмечает Вышемирский, финансировались также из бюджета NASA, своих денег в России на исследования не нашлось: «Они, по-моему, $150 млн заплатили за это». На приматах отрабатывали воздушные смеси, режим дня и ночи. «Мы разработали методики подготовки и тренировки космонавтов, потом задешево передали их американцам»,— замечает Лапин.
По завершении программы «Марс-500» шесть лет назад выводы были неутешительными.
Борис Лапин полагает, что «при существующих методах защиты межпланетные путешествия нереальны. Потому что
космонавт не долетит до Марса. Тяжелые заряженные частицы, которые особенно сильно действуют на головной мозг, приводят к тому, что нарушаются когнитивные функции, координация движений».
Недавно НИИ приступил к лунному проекту, который отчасти повторяет задачи марсианской программы. Сейчас, отмечает Олег Вышемирский, институт готовит 12 макак-резусов, на которых будет моделироваться радиационный фон поверхности Луны.
«Мы должны сейчас изучить высокоэнергетические протоны и действия тяжелых заряженных частиц,— отмечает Лапин.— Физической защиты от этого пока нет. Либо такой огромный слой металла должен быть, что корабль будет просто неподъемным».
Фундаментальные и прикладные
У абхазского НИИ экспериментальной медицины, где работали нынешние сотрудники российского НИИ приматологии, были программы сотрудничества, статус, деньги, а когда все рухнуло после распада СССР и грузино-абхазской войны, наука ушла в глубокий минус.
Задача адлерского института, настаивает Виолетта Агрба,— это «моделирование особо важных, социально значимых человеческих заболеваний на обезьянах». На деле это в первую очередь фундаментальные, а затем прикладные исследования.
Лаборатория иммунологии и биологии клетки занимается исследованиями стволовых клеток в борьбе с раком. «В практической онкологии широко используется антибиотик доксорубицин, им лечат злокачественные лимфомы, лейкозы,— рассказывает Агрба.— Введение этого препарата значительно снижает содержание злокачественных В-клеток чуть ли не через несколько часов, но препарат вызывает страшную интоксикацию, кардиомиопатию и т. д. Вот мы изучаем, как можно сделать так, чтобы этих осложнений можно было избежать».
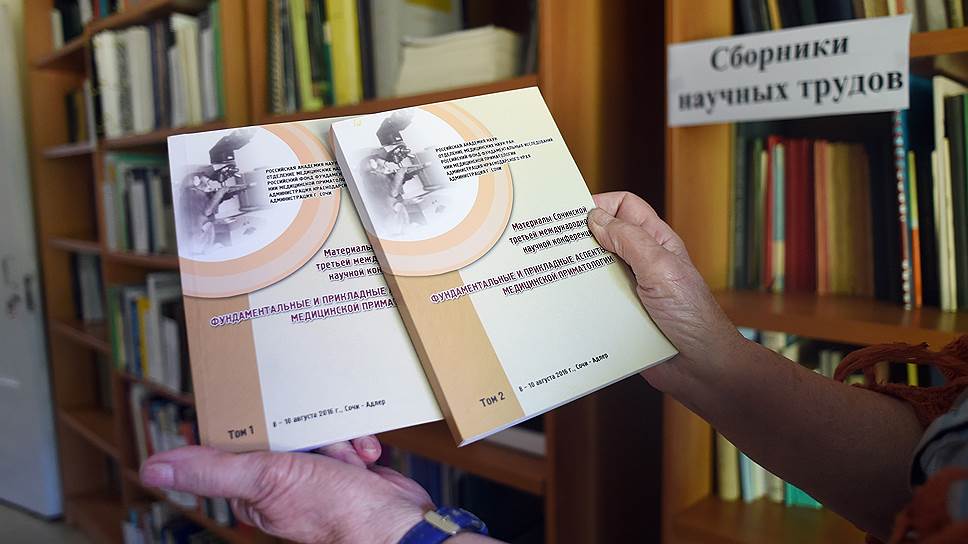
Ученые из экспериментального НИИ медицинской приматологии РАМН занимаются как прикладными исследованиями, так и фундаментальной наукой
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Предварительные результаты показали, что стволовые клетки могут защищать органы и ткани от токсичного противоопухолевого препарата.
Кроме того, в лаборатории проверяли омолаживающие препараты эпиталамин и эпиталон — экстракт пинеальной железы молодых бычков и его синтезированный аналог.
Ирина Попович, исследователь из петербургского Института геронтологии и биорегуляции, работавшая с препаратами, говорит, что «непосредственных клинических исследований у препаратов еще нет». Это, по ее словам, очень дорого, а денег на это нет. Однако в продаже — в РФ и за рубежом — препараты появились. Это «левые» препараты под названием «Эпиталон», говорит Попович, к которым ее институт никакого отношения не имеет.
А что соседи?
Проводит свои исследования и сухумский НИИ экспериментальной патологии и терапии. Партнеры — российские институты и фармкомпании.
«У нас приоритетные исследования по моделированию злокачественной лимфомы у обезьян,— рассказывает Зураб Миквабия, директор института.— Мы три года назад совместно с Центральной клинической больницей получили патент на новые методы лечения лимфомы на кроликах, то есть в области ветеринарии».
Началась большая программа по геронтологии, в ходе которой уже пять лет обследуют 30 долгожителей Абхазии, сравнивая полученные данные с данными обезьян.

Основные партнеры и заказчики НИИ экспериментальной патологии и терапии ААН, при котором сейчас существует сухумский питомник,— российские институты и компании
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Помимо чисто медицинских целей институт ставит перед собой и другие научные задачи. Например, хочет восстановить популяцию обезьян, обитавших в Абхазии до грузино-абхазского конфликта.
Еще в 1970-х там поселили два стада гамадрилов. Абхазия, хоть и субтропики, для африканских приматов место непривычное. Обезьяны, как ни странно, адаптировались и размножились — их численность достигала 300 особей. Когда в 1992 году вспыхнул грузино-абхазский конфликт, на линии огня, в 20 км от Сухума, в урочище реки Западная Гумиста, оказались обезьяны. Война, в которой погибло 16 тыс. человек, положила конец и этому уникальному эксперименту.

Из-за грузино-абхазского конфликта в начале 90-х был прекращен уникальный эксперимент по расселению павианов в дикой природе
Фото: Reuters
Зураб Миквабия вспоминает:
«В 1992–1993 годах были морозы до минус пятнадцати, больше метра снега выпало, но гамадрилы выжили. Погибли они от войны, очень много погибло. Человек с автоматом в руках — это, к сожалению...»
«Надеюсь, что в следующем году начнем заселять,— рассуждает Зураб Миквабия.— Это клондайк для ученых, которые наблюдают обезьян в природе. Мы высадим их на то же место — правительство нам выделило около 100 га. Для туристов это интересно, и телеканалы, например National Geographic, готовы продолжить свои прерванные когда-то съемки. У нас это стоит в плане под номером один».
Не спрашивайте о зарплате
С Натальей Гончаровой, заведующей лабораторией эндокринологии НИИ медицинской приматологии РАМН, мы разговариваем в ее кабинете на втором этаже. На полу — полусобранная мебель, какой-то очень старый компьютер.
«Мы, когда приехали из Сухуми, начинали все с нуля,— вспоминает Надежда Гончарова.— Академия медицинских наук бросила клич по всем своим лабораториям: если что-то у вас есть ненужное, что-то в двух экземплярах, отдайте сюда. Так все, что было, и списанное, и на выброс, до сих пор и стоит. Двадцать лет уже. Не хватает просто всего. Вот даже вытяжного шкафа нет».
С оборудованием плохо и в других лабораториях. «У нас есть такой прибор — проточный цитометр,— рассказывает Виолетта Агрба.— Он нам необходим, чтобы определить клеточное звено иммунитета. А он у нас сломался. Без него мы не можем начинать эксперименты со стволовыми клетками. Вот в Сухуме проточник работает, и мы хотим низко кланяться сухумчанам, повезти кровь и посмотреть там. А ведь когда-то все ведущие приматологические центры мира начинали с изучения нашего опыта, нашей организации работы...
Приезжала к нам министр здравоохранения, показала я ей боксы, спрашивает: “Кто у вас работает с культурами?” Женщина, которой 77 лет. У меня в лаборатории почти 80% — пенсионеры».

Когда-то в сухумский питомник приезжали делегации со всего мира
Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС
Молодых, поясняет профессор, невозможно удержать:
«Защитил диссертацию и фьють — за рубеж или в фирму, где лаборант или младший научный сотрудник получает 70–80 тыс. Мы 70–80 тыс. кому можем платить? Никому».
Научный сотрудник Наталья из лаборатории эндокринологии приехала из Новосибирска — пригласили. Получает она 12 тыс. руб. в месяц. Лаборант-исследователь — 7 тыс. руб. «Подрабатывают на экскурсиях с обезьянами»,— поясняет заведующая лабораторией Гончарова.
Желающих работать в институте много, считает Борис Лапин, но основной вопрос — жилье:

Несмотря на нехватку финансирования исследований и очень скромные зарплаты сотрудники адлерского НИИ продолжают вести научную работу
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
«У нас на территории института сегодня примерно 30 семей живут, что вообще недопустимо. Мне с большим трудом удалось построить несколько коттеджей. Нам нужно построить дома на 120 квартир. Есть исследователи, но где они жить будут? Снимать квартиру — это 30–40 тыс. руб. А оклады низкие. Профессор получает 32 тыс. руб. Молодых талантливых ребят можно было бы привлечь, есть бескорыстные, у которых зарплата на втором плане, на первом — интерес. Но мне их негде поселить».
«Выживаем, зарабатывая деньги всякими договорами,— продолжает Лапин.— Есть разные коммерческие организации, например фармацевтические, которые просят нас испытать препараты на обезьянах, вот так вот. Это дает нам в год примерно 80–100 млн руб. Еще столько же мы получаем из бюджета. И все эти деньги уходят на добавку к зарплате сотрудникам и кормежку обезьян».
У института более 5 тыс. обезьян. В день на питание каждого животного уходит 300–400 руб.
Основной заказчик НИИ — российская компания Biocad. «Чтобы препарат выпустить на рынок, необходима уверенность, что даже при длительном применении, на примере приматов, вы не вызовете нежелательных серьезных явлений,— поясняет Роман Иванов, вице-президент по исследованиям и разработкам Biocad.— Это необходимый этап, и он дорогостоящий. Одно исследование одного препарата, которое проводится примерно на 40 обезьянах, стоит более 10 млн руб. Таких исследований мы в год проводим от десяти до пятнадцати».
В НИИ заезжает экскурсионный автомобиль, из него выходят молодые девушки в платьях, в туфлях на каблуках — на туристов не похожи, те ходят в шортах и сланцах. Это проверка ФАНО, к которому в результате реформы РАН прикрепили институт. Проверяющие слушают, как обезьяны летали в космос, с таким выражением лиц, что, судя по всему, об обезьянах и НИИ они знают еще меньше, чем я.
«Процветает непрофессионализм,— говорит профессор Гончарова.— В советское время профессиональный уровень был гораздо выше, а сейчас многие ученые были вынуждены уехать. Многие заграницей или работают в Москве. Я все время ребятам говорила и говорю, что работаю, пока еще можно хоть что-то сделать и получить хорошие результаты. Как только это станет невозможным, я уйду. А если остаетесь, то, пожалуйста, придерживайтесь наших принципов: результаты должны быть надежными, результаты должны быть на мировом уровне».

По мнению сотрудников НИИ приматологии, профессионалов в их области с каждым годом становится все меньше
Фото: РИА Новости










