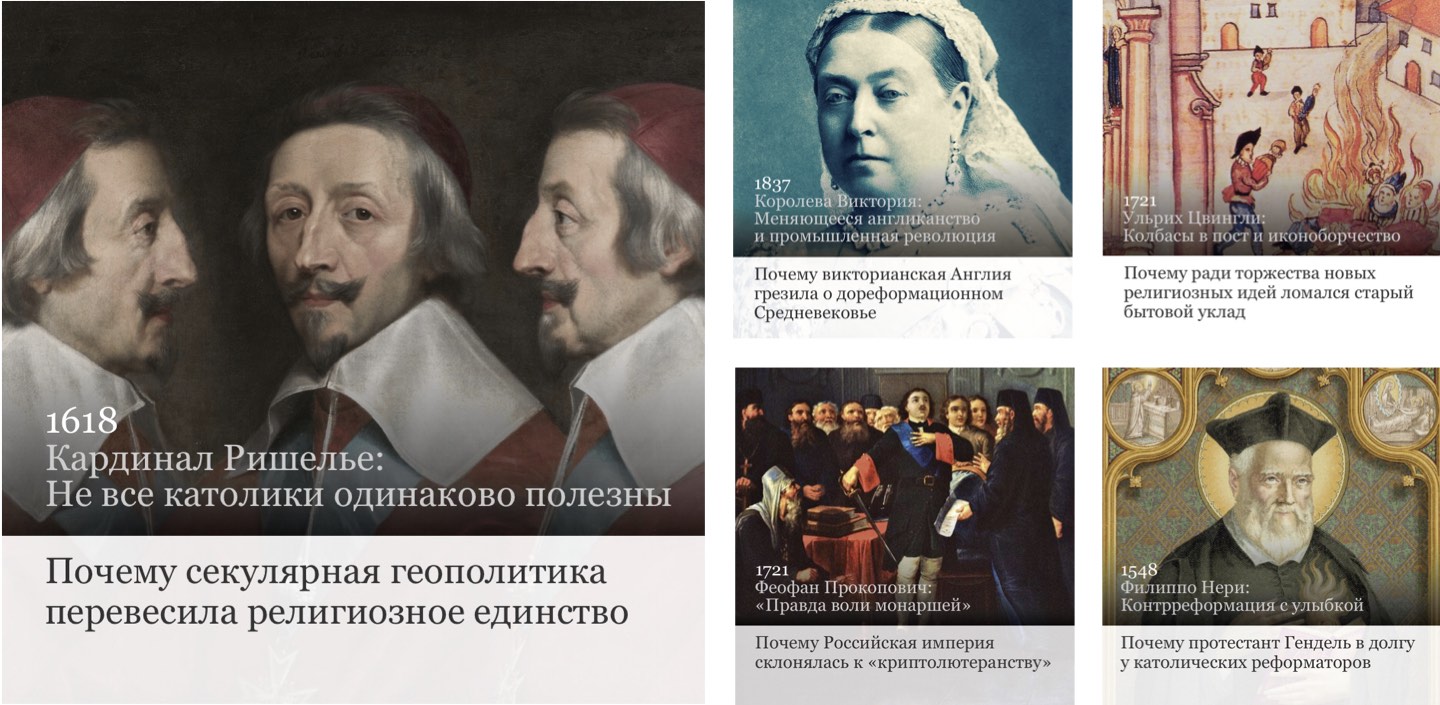«Яйцо, из которого вылупился Лютер»
Почему предтеча Реформации испугался ее
Я всегда по какому-то необъяснимому врожденному чувству отвращался от сражений и всегда предпочитал выступать на более свободных полях муз, чем сражаться врукопашную «Диатриба, или Рассуждение о свободе воли»
Священник, гуманист, богослов, публицист, признанный ученейшим человеком своего времени. Огромный диапазон его сочинений охватывает и поэзию, и сочинения по педагогике, и филологические исследования, и трактаты по теологии и христианской этике. Но более всего известны, во-первых, его сатира "Похвала глупости", а во-вторых, полемика с Лютером, в которую он был вынужден с неохотой вступить.
"Всему, чего требует Лютер, я учил сам, только не столь резко и не с такими крайностями",— пожалуй, не без обиды вывел в письме к Цвингли Эразм Роттердамский, надежда учености позднего Ренессанса, один из первых "граждан Европы", человек, дружбы которого все государи домогались так же ревностно, как это будет разве что с Вольтером два с лишним века спустя. Он кривил душой только самую малость: действительно, кто же высмеивал алчность, лень и невежество духовенства так же язвительно, как Эразм, кто же еще так настаивал прежде всякого Лютера на свободе религиозной совести и на необходимости, вооружившись всеми достижениями просвещенного ума, освободить христианское благочестие от налипших на него заблуждений и злоупотреблений. И это Эразм, посягнув на священный авторитет латинского перевода Библии, смело исправил перевод Нового Завета — и был при этом так убедителен, что именно его изданием Нового Завета пользовался Лютер в своих собственных переводческих трудах.

Ганс Гольбейн Младший. «Эразм Роттердамский», 1523 год
Казалось, что рано или поздно они должны объединиться. Сам авторитет "князя гуманистов" значил многое, и дружелюбная переписка с обласканным могущественнейшими князьями светилом, которая по жанру своему была обречена на публичность, могла придать Лютерову делу дополнительный вес.
И Лютер, героически отложив запальчивость и известный эгоцентризм, пишет в 1519 году письмо Эразму, которое даже с поправкой на принятые в гуманистических эпистолах расшаркивания, кажется чуть ли не самым заискивающим текстом, который вышел из-под пера реформатора. Он риторически интересуется: "Есть ли такой человек, которого до глубины сердца не занимал бы Эразм, которого не учил бы Эразм, в котором не царствовал бы Эразм?" Вежливо удивляется тому обстоятельству, что Эразму "из-за этих пустяков с индульгенциями" стали известны его, Лютера, "побасенки". И рекомендуется так: "Знай, что пишет тебе ничтожный брат во Христе, чрезвычайно ревностный и преданный; впрочем, по невежеству своему он не заслуживает ничего, кроме безвестной могилы: о нем не знает ни небо, ни солнце".

Альбрехт Дюрер. «Портрет Эразма Роттердамского», 1526 год
Эразм отреагировал учтиво, но сдержанно. Ставки были слишком высоки, слишком напряженно все ждали от него решительного высказывания за или против нового учения. А это стесняло и пугало. Впрочем, пугало и то, что сторонники и противники Лютера расходятся все дальше, и в воздухе начинают звучать угрозы. Эразм пытается все же высказаться, избрав роль не публичного арбитра, а закулисного примирителя: сторонникам Реформации пишет в том духе, что Лютер, да, во многом, наверно, прав, но не нужно же раскачивать лодку. А официальным властям, светским и церковным,— что Лютер, да, во многом, наверно, неправ, но надо разбираться спокойно и с кротостью. Когда Фридрих, курфюрст Саксонский, припер его к стенке прямым вопросом "Что же нам делать с Лютером?", Эразм, поюлив, ответил, что его дело должны разбирать уважаемые и непредвзятые судьи, а до тех пор никаких репрессий затевать нельзя, потому что, дескать, трудно идти против рожна. И тогда Карл V в 1521 году собирает рейхстаг в Вормсе, который ни к какому примирению не приводит: Лютера осуждают, он бросает в лицо "уважаемым и непредвзятым судьям" свое великое "на том стою" и оказывается вынужденным тайком бежать под защиту курфюрста Фридриха.
И только в 1524 году двое оказываются вынуждены уже без всякой куртуазии и без уверток вступить в открытый поединок. Лютер, понятное дело, был зол на то, что "князь гуманистов" так и не бросился на его защиту, но еще больше его злило то, что виделось ему богословской амбивалентностью Эразма, мягкостью и увертливостью, граничившей со скептицизмом: "Слово неопределенное, сомневающееся, речь колеблющуюся надобно выметать железной метлой, сворачивать в бараний рог, выводить под корень без всякого снисхождения". Эразм, в свою очередь, изнывал под грузом морального и политического долга: если уж не высказался против Рима, то давай-ка теперь доказывай его правоту. Может быть, он отделался бы еще дюжиной-другой изящных увещательных писем, но то, что творили по местам толпы новоявленных лютеран, богословствовавших дрекольем и вилами, видимо, окончательно его побудило все-таки взяться за перо.
Даже тут он бравирует миролюбием и разборчивостью: мог бы написать холерический, шумный, сочащийся желчью и переполненный оскорблениями памфлет вроде тех, что так хорошо удавались самому Лютеру. Но нет. Вместо тотальной атаки на Лютера-учителя, Лютера-вождя и Лютера-человека Эразм (хоть и подпустив пару шпилек в адрес тех, "которые отважно заявляют, что у Лютера в мизинчике заключено более просвещенности, чем у Эразма во всем теле, против чего я, разумеется, сейчас возражать не стану") принципиально сосредотачивается на одном-единственном богословском пункте: свободе воли.

Мартин Лютер на заседании рейхстага в Вормсе
Фото: DIOMEDIA / Alamy
Это действительно обострившийся в пору Реформации, но старый-престарый вопрос. Официальная доктрина сходилась на том, что человеческая свобода грехопадением повреждена, но не упразднена, а абсолютного предопределения не существует, есть только предведение. Однако схоластическая философия, не без влияния арабских перипатетиков, иногда посматривала на учение об абсолютном предопределении с сочувствием. Не торопясь, правда, с нравственными выводами: речь шла скорее о надморальном законе мироздания, в котором нет места случайному и непредусмотренному, а значит, и действительной свободе.
Лютер эту отвлеченную дискуссию переводит в тот регистр, который для его аудитории имел самое жизненное звучание. Если свободы воли нет (не по космическим законам, а из-за повреждения человеческой природы), если без сверхъестественной помощи человек обречен только грешить даже при добрейших намерениях — то, значит, и все традиционные дела внешнего благочестия бессмысленны, и спасти грешника может только благодать, оправдать же — только вера.
В своей диатрибе Эразм подробно разбирает ссылки на Писание, которые говорят о другом, о том, что произвольно выбирать между добром и злом человек все же способен. И ужасается тем выводам, которые можно сделать из Лютерова учения о том, что мы действуем не по своей воле — а значит, и зло творим тоже по воле Бога. "Какое широкое окно для нечестия откроет бесчисленным смертным распространение этих слов! <…> Какой слабый человек выдержит постоянную и очень тяжелую борьбу со своей плотью? Какой дурной человек будет стараться исправить свою жизнь? Кто сможет решиться полюбить всем сердцем Бога, который создал кипящий Тартар с вечными муками и который наказывает несчастных за Свои злодеяния, будто Его радуют человеческие мучения?! А ведь так истолкуют это многие".

Иллюстрации Ганса Гольбейна Младшего к «Похвале глупости»
Фото: DIOMEDIA / Alamy
Лютер долго собирался с силами для ответа, но, собравшись, не скупился на гневные окрики. "Хмель Эпикура!", восклицает он, "Лукианова зараза!" И сообщает корреспонденту, что в его словах "нет Христа, нет Духа, они холоднее самого льда, и только блеск твоего красноречия скрывает такой порок! Красноречие отняло у тебя, несчастного, страх перед папистами и тиранами, и ты не боишься прослыть вообще безбожником!" Эразмова книжица, мол, "настолько нечестива, настолько богохульна и порочна, что подобной ей никогда еще и не было". Не самый удачный гарнир для аргументов, хотя бы и многочисленных, и подобранных по существу. Эразм замкнулся в раздосадованном молчании; Лютер долго еще говорил друзьям с глазу на глаз, что Эразм этот — бесовская дрянь, клоп, которого раздавить бы, да вони много будет, потом попытался все-таки помириться, но, как можно догадаться, без особого успеха.
Так они и не сошлись, два питомца одной и той же кормилицы ренессансного христианского гуманизма, так уверенные когда-то, что, в сущности, делают — один искусным пером, другой зычными призывами — одно и то же дело. Эразм потом, откровенно признаваясь в трусоватости, говорил, что пользы в его защите Лютера было бы немного: если бы дело дошло до репрессий, то он не стал бы ради истины рисковать головой. Ну и вообще, мол, не всем дано быть мучениками, и разумнее тогда уж правильным велениям папы следовать, раз уж они правильные, а неправильные — как-нибудь терпеть. Слабость одного-единственного человеческого характера — еще не трагедия, но вот крах многолетней уверенности лучших умов континента в том, что всегда можно договориться, что наука, просвещение и отказ от фанатизма приведут ко всеобщему примирению действительно оказался бедой с совсем не академическими последствиями.