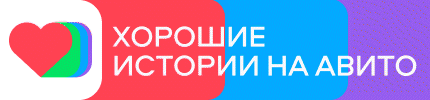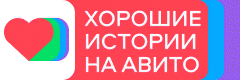Из чего состоит опера: колоратура
Проект Сергея Ходнева

Чечилия Бартоли. Опера Йозефа Гайдна «Душа философа, или Орфей и Эвридика»
Фото: DIOMEDIA / LEBRECHT MUSIC AND ARTS
Колоратура — виртуозное украшение вокальной мелодии. Может включать исполняемые в быстром темпе гаммы, арпеджио, трели, скачки на большие интервалы и так далее. Ассоциируется прежде всего с итальянской оперой от высокого барокко до раннего Верди, но встречается и у композиторов других культур и других эпох.
В этом есть, конечно, определенная ирония. Виртуоз — это же «доблестный» или даже «добродетельный». Коннотаций тут множество, и древнеримская патриархальная virtus — совокупность идеальных качеств человека и гражданина, и христианская добродетель как упрямое стремление к нравственному совершенству, и ренессансная virtu — отважная самореализация благородной души в этом мире; этимологически тут рядом еще vir («муж», «мужчина»), семантически — vis («сила»). А теперь мы преспокойно зовем виртуозностью «послушную, сухую беглость» пианиста, играющего трансцендентные этюды Листа. Или, того хлеще, способность певца или певицы щебетать и разливаться руладами. С тяжеловесно-торжественным, как рыцарские латы, звучанием слова «доблесть» это как-то не вяжется. А добродетель… Ну вот Вагнер теоретизировал, что музыка — она женщина, и притом достигает полной индивидуальности только в тот момент, когда отдается. Соответственно, разные национальные школы оперной музыки — разные женщины. И по поводу итальянской музыки со всеми ее колоратурами автор «Кольца» прямо совсем не стесняется в выражениях: «Итальянская оперная музыка очень удачно названа проституткой. <…> Она интересуется только собой, никогда не приносит себя в жертву, кроме тех случаев, когда сама хочет получить наслаждение или доход; и в таком случае она предлагает чужому пользованию только часть своего существа, которой распоряжается легко, ибо эта часть стала предметом ее произвола». Вот вам и добродетель.
При этом мы нередко упускаем из виду, что раскатистые колоратуры, даже если они кажутся легкомысленными, игривыми, слишком сверкучими для того, чтобы взывать к эмоциональному сопереживанию,— совсем не безделица: их не запоешь с кондачка, по капризу или внезапному наитию. И даже задатки тут еще ничего не решают. Мягкая подвижная гортань, идеальная подача звука (чтобы даже в скоростных пассажах отчетливой была каждая нота), правильное владение дыханием и умение «сберегать» его — все это достигается не порывом, а прилежанием и бесконечными упражнениями. Вплоть до начала XIX века эти навыки и эти упражнения, разрабатывавшиеся и совершенствовавшиеся еще с барочной поры, и составляли важную часть вокальной школы — во всяком случае, школы итальянской. Можно долго высчитывать, какие выгоды певческому аппарату исполнителей XVII–XVIII веков приносила кастрация (детские голосовые связки при взрослой гортани, увеличенный объем грудной клетки и так далее). Но все же без многолетней изматывающей муштры, известной нам по описанию неаполитанских консерваторий того времени и ставшей основой дальнейшей вокальной педагогики, все это оставалось бы просто эндокринологической аномалией.
Зачем это было нужно? Изначально — сколько бы ни язвил по этому поводу Вагнер — цели колоратуры были на свой лад вполне обоснованы драматически. Украшать (точнее, «расцвечивать», «раскрашивать» — colorare) полагалось особенно нагруженные в смысловом отношении вокальные моменты арии: распевались прежде всего те слова, которые обозначали или движение («лечу», «стремлюсь» и так далее), или обуревающую персонажа в это драматургическое мгновение страсть. Это потом, как сетовал уже в 1720-е годы Бенедетто Марчелло, композиторы стали писать виртуозные пассажи, ни с чем особенно не сообразуясь, кроме стихотворного размера и элементарного удобства для исполнителя.
Но на самом деле колоратура и в барочной, и в классицистической, и в белькантовой опере — вовсе не обязательно исполнение того, что композитор черным по белому прописал в нотах. Это еще и импровизация, за право на которую оперные певцы бились поистине доблестно вплоть до времен Верди. Умение ловко вставить блистательное украшение на свой страх и риск тоже культивировалось и до поры до времени только приветствовалось. Особенно если речь шла о репризах: зачем же повторять спетое, если это повторение нельзя никак варьировать, нельзя дополнительно расцветить хоть парой трелей? Чай, народ заскучает. Это Россини начал скрупулезно выписывать все колоратуры, подразумевая, что прибегать к отсебятине уже и не нужно. А Верди даже требовал, чтобы обязательство петь так, как написано, прописывалось в контрактах певцов. А потом композиторы и вовсе стали стесняться употреблять колоратуры в таком количестве, как прежде: зачем, мол, потакать пустой и бессмысленной эгоцентрике певцов, которым бы только козырнуть виртуозностью, а заодно и угодить вкусам публики.
Вкусы публики, однако, меняются сообразно тому, как меняются запросы к оперному театру, как меняется эстетика вообще — и проделывают при этом занятные кульбиты. В какие-нибудь 1870-е никому не пришло бы в голову, что в начале столь далекого XXI века люди снова будут слушать — и в огромных количествах — вроде бы давным-давно сданную в утиль оперную музыку Генделя, Гассе, Вивальди, Порпоры, будут возвращать на сцены редкие вещи Россини, Доницетти и их современников. Сопрано, меццо или тенору с отменной колоратурной техникой снова есть что петь — и в избытке. А временная дистанция, счистив со старых колоратур этот налет привычной развлекательности, помогает воспринимать их иначе: как инструмент убеждения и способ вызвать ощущение чуда, как живой риторический прием и как прекрасную диковину — и даже как доблесть и добродетель.
бурные колоратуры
«Son qual nave» («Артаксеркс» Риккардо Броски)
В любви к колоратурам даже опера XVIII века знала меру: чрезмерно разукрашивать какое-нибудь тихое сценическое горе было не принято. Зато если ария иллюстрирует взволнованные чувства героя/героини, да еще, как это часто бывало, сравнивая их с утлым суденышком посреди бурного моря — тогда это повод сделать из нее парад вокальной пиротехники. Ария из «Артаксеркса», которую для великого Фаринелли написал его брат-композитор,— пример просто-таки устрашающий: такого количества длиннющих гаммообразных пассажей, трелей, группетто, репетиций (при огромном тесситурном разбросе и стремительном темпе) менее отчаянным сочинителям хватило бы на целую оперу.
блуждающие колоратуры
«Addio o miei sospiri» («Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка)
Не всегда колоратурная ария, написанная, скажем, для сопрано (как шлягерная «Der Hoelle Rache» моцартовской Царицы ночи),— неизменная данность. Тот же Глюк сначала написал адски трудную сопрановую арию с бесчисленными руладами для проходной вещицы на случай. Пять лет спустя в погоне за эффектностью он приспособил ее для тенора Легро во французской версии «Орфея и Эвридики». Почти через век Берлиоз адаптировал ее для меццо-сопрано Полины Виардо в своей редакции глюковской оперы. Ну а потом ария с кое-как переведенным текстом вернулась в итальянскую версию «Орфея», которая до недавнего времени была наиболее употребительной.
механические колоратуры
«Les oiseaux dans la charmille» («Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха)
В своей опере 1881 года Оффенбах позволяет себе вдоволь поиронизировать над итальянской виртуозностью: знаменитый и эталонно сложный колоратурный номер «Сказок Гофмана» — куплеты, которые по сюжету исполняет механическая кукла. Поет она пленительно, постепенно наращивает изощренность украшений, но время от времени ее «заедает», и изобретателю Спаланцани приходится подзаводить ее. Перевоплощаться в забавный автомат, издающий безукоризненно-хрустальные звуки,— задача благодарная, но требовательная, особенно для тех сопрано, которые, помимо Олимпии, исполняют роли еще и двух возлюбленных Гофмана из плоти и крови — Антонию и Джульетту.
этнические колоратуры
«Ответь мне, зоркое светило» («Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова)
Не всегда колоратуры — это красивость ради красивости и сложность ради сложности. Иногда у вокальной орнаментики бывает и дополнительная художественная задача — например, передать экзотический колорит, как в «Дон Карлосе» Верди, где эффектная песня Эболи о фате имитирует мелизмы традиционной испанской музыки. Русские композиторы постглинкинского периода тоже нередко прибегали к колоратурному письму со сходными целями — когда нужно было обрисовать в вокальном номере истомный и изысканный Восток. Вроде того, о котором поет в «Золотом петушке» Шемаханская царица, привораживая тем самым простодушного царя Додона.