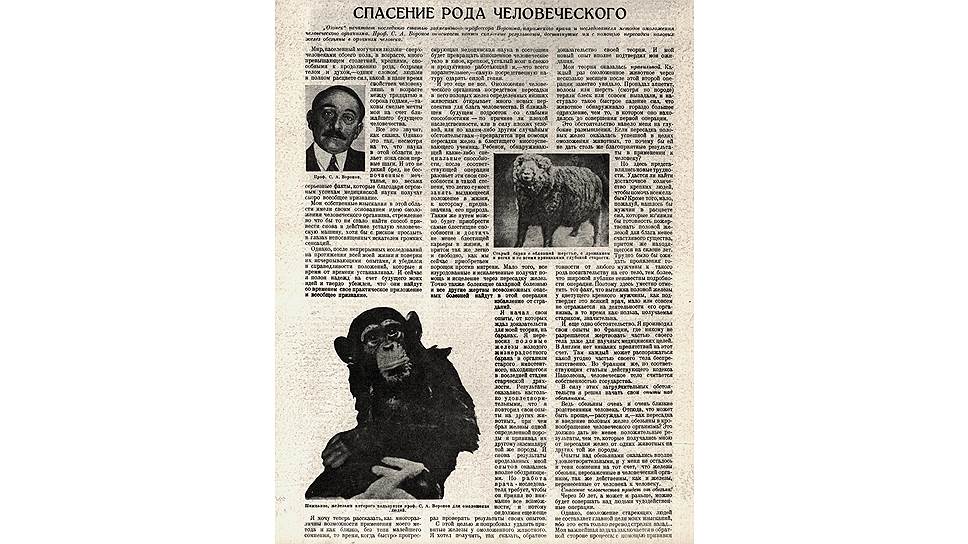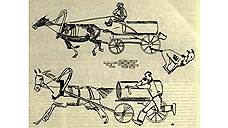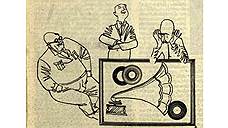«Огонёк» — 120
Уникальные события и люди в юбилейной рубрике журнала
спецпроект

«Огонёк» — 120
Уникальные события и люди в юбилейной рубрике журнала
1899 год отмечен в истории разными событиями: началась англо-бурская война, основан футбольный клуб «Милан», запатентован аспирин… Но главное — вышел первый номер «Огонька»! Это случилось в декабре, но свой 120-летний юбилей мы собираемся отмечать весь год в специальной юбилейной рубрике.
 Так долго — живут! Как «Огонёк» открывал новые имена и изобрел викторину
Так долго — живут! Как «Огонёк» открывал новые имена и изобрел викторину
Девочка с картинки / Судьба

Юная Лена на картине Татьяны Яблонской «Утро»
Фото: РИА Новости
«Огонёк» начинает рубрику, рассказывающую о том, как журнал изменил жизнь людей. Первый рассказ о том, как девочка с огоньковской репродукции стала сначала любовью, а потом и женой художника из Казахстана
Высокие двери балкона распахнуты. В комнату рвется утро. Солнце теплыми пятнами лежит на полу, в центре девочка-подросток балетным взмахом тянет руки к простреленным сиянием листьям, которые укрывают оконные арки. Татьяна Яблонская написала картину «Утро» в 1954 году, она была напечатана в «Огоньке». Ее человечность, теплота, свежесть стали символами оттепели. Летящее движение рук девочки и нежность утра создавали у современников ощущение надежды и начала нового времени. Репродукция «Утра» из «Огонька» висела в квартирах у тысяч советских граждан. Была она дома и у одного казахского мальчика из Алматы. Застывшую в утреннем солнце девочку он видел каждый день.
Натурщицами для картин Яблонской часто становились ее три дочери. У распахнутого балкона она изобразила свою старшую дочь Елену. Тогда ей было 13 лет. Семья только переехала в новую квартиру в Киеве. Им дали две большие комнаты в коммуналке. «Меня недавно приняли в пионеры, я просто летала,— вспоминает Елена.— Сама вскакивала поутру с первыми лучами солнца и жмурилась, ощущая, как нагрело весеннее солнце пол. Я любила заниматься гимнастикой. И вот эта поза, в которой я на картине, она не столько гимнастическая сколько балетная. Когда собираешься делать “ласточку”. Такой отмах ножки назад. Мама увидела это мое утреннее настроение и придумала свою работу». Затянутые листьями верхушки окон на картине — результат еще одного увлечения юной Лены. Она очень любила растения. На балконе у нее всегда стояла рассада с цветами. Тогда она мечтала заниматься ботаникой и выйти замуж за лесника. Но мама после 7-го класса «практически силой» отправила девочку в художественное училище. У Лены обнаружился талант, и училась она в итоге с удовольствием. Тем не менее девушка изо всех сил старалась скрыть, что она дочь известной художницы.
«Жили мы небогато,— рассказывает Елена.— Хоть мамины картины и печатали в учебниках вместе с шедеврами Шишкина и Репина, денег это не приносило. Мои одноклассники даже не подозревали, что я дочь той самой Яблонской, потому что я носила фамилию отца — Отрощенко».
Потом Елена поступила в Москве в Строгановскую академию на факультет декоративного оформления тканей. На первом курсе за Еленой ухаживали три студента из Казахстана. «Метад, или просто Митька, был красавцем. Провожал, пел песни. Но оказался ловеласом. Арстан скромно подсаживался в библиотеке, рассказывал о родине. И тоже пел. Только басом». А с Арсеном Бейсембиновым Лена сидела за одной партой. Однажды он набросал на листочке профиль девушки и сказал «Я тебя люблю». «Ну и что?» — отреагировала Лена. «В отличие от мамы я не была красавицей,— смеется она.— Пара у нас с Арсеном была удивительная: он большой черноволосый казах с экзотической внешностью, а я маленькая серая мышка. Что он во мне нашел, не знаю». Все три юноши пригласили Лену в гости к себе в Алматы, но поехала она к Арсену. Казахстан девушку поразил. В горах она впервые увидела, каким бесконечным может быть пространство. «Это был рай, сказка»,— говорит она. В доме матери Арсена, поднявшись по «скрипучим, деревянным ступенькам», девушка увидела на стене репродукцию «Утра» из «Огонька». «Эта девочка — я»,— призналась она.
На втором курсе Арсен и Елена поженились, и через год родился сын. «Именно этот человек был моим,— говорит художница.— С детства он читал книги, бродил по брошенным домам, оставленным уехавшими после войны. Он таскал эти книги домой, зачитывался, очень любил русскую литературу. Он был просто уникальным человеком. Художник из него получился прекраснейший». После выпуска молодая семья уехала в Казахстан. Там они работали иллюстраторами, мультипликаторами, художниками-постановщиками в кино. Елена оформила 32 детские книги, создала рисунки для десятка мультфильмов. Девочка из «Утра» и казахский мальчик, выросший рядом с ее солнечным сиянием, прожили в покое и радости 40 лет. Арсена не стало в 2000 году. Последние 8 месяцев перед смертью он не вставал с кровати. Елена ухаживала за ним и читала ему. Однажды спросила: «А что же дальше?» — «Ницше».— «Хорошо, Арсенушка, завтра начнем». Но завтра Арсена не стало.
Сын Елены сейчас известный художник в США. А сама художница живет в маленьком доме в пригороде Алматы. Завела фазанов, разводит пионы. Наконец она отдалась своему детскому увлечению — ботанике. На ее картинах сейчас преимущественно цветы. Тем, кто приходит на ее выставки, она дарит браслеты из бисера, которые сами сплела. «Мы с мужем долго работали для кино и мультипликации. Конечно, истории любви там очень важны. Но кино — это романтика большого движения, и она мне почему-то далека. Я просто встретила человека и никогда об этом не жалела».
Кратко, точно! / Новация
Мало кто знает: слово «викторина» пришло в русский язык из «Огонька». Журнал не только открыл для читателей неведомую прежде в Отечестве игру, но и придумал ей название. А случилось это 91 год назад…
В первом номере журнала за 1928-й сообщалось: «“Огонёк” вводит у нас викторину — новую игру, недавно появившуюся в Америке, коренным образом реорганизовав и приспособив ее к нашему быту. Редакция подчеркивала, что само название — ее изобретение (от латинского слова «виктория», означающего «победа»); идея в том, что «игра поможет читателям одержать победу в борьбе за расширение кругозора». Викторина выходила в течение года, в каждом номере — серия из 50 вопросов, правильные ответы публиковались в следующем по очередности выпуске. Новинка вызвала небывалый читательский ажиотаж: редакцию накрыла волна звонков и писем.
Как была устроена первая отечественная викторина? Играть можно было в одиночку (и проверять себя самостоятельно), вдвоем (один спрашивает, другой отвечает) и неограниченным составом (ведущий зачитывает вопросы, остальные записывают свои ответы на листочках). На обдумывание давалось в зависимости от трудности вопроса от 30 секунд до минуты. За точный ответ полагалось два очка, за приблизительный — одно. «Теоретически серия может дать счастливому игроку максимум 100 очков,— объяснял правила “Огонёк”.— Но будьте горды, если соберете 50, с 40 очками — вы с честью вышли из положения». Для воодушевления игроков журнал добавлял: «При игре приблизительно такого же рода на Западе писатель Уэллс получил 63 очка, ученый Эйнштейн — 62, изобретатель Эдисон — 55».
«Образование и начитанность, конечно, усиливают игрока, но не до конца,— разъяснял “Огонёк”.— Человек, сразу отвечающий на любой вопрос по хронологии событий, может не знать, допустим, из чего делается бетон, зато квалифицированный инженер окажется не в курсе, кто такой Робеспьер... Викторина не предлагает трудных вопросов, с которыми надо было бы лазить в словари или справочники. Она построена на уровне средних знаний передового рабочего или служащего. И все-таки в процессе игры обнаруживается, что игроки “запамятовали”, например, что носят на голове турки или до скольких лет доживают лошади».
Предлагаем читателям в 2019-м испытать себя и ответить на 20 вопросов из той самой первой викторины, 1928 года, которую журнал предварял призывом: «Не острите! Отвечайте просто, кратко, точно!». Итак:
- Какие два вида яблок не употребляются в пищу?
- Где впервые в русской литературе Петербург назван Петроградом?
- Почему говорят «ревет белугой»?
- Какая разница между аэропланом и аэростатом?
- Откуда взялся обычай при встрече снимать головные уборы?
- Что такое «вес мухи»?
- Какие государства называют лимитрофами?
- Имя какой балерины случайно вошло в историю коммунистической партии?
- Почему стакан чая остывает быстрее, если в него положить сахар?
- Архитекторы какой национальности преимущественно строили Московский Кремль?
- Что такое «хаки»?
- В каких случаях люди, совместно принимая яд, говорят друг другу «будьте здоровы»?
- Откуда произошло слово «шаромыжник»?
- Дает ли шуба тепло?
- Кого называли первым химиком среди музыкантов и первым музыкантом среди химиков?
- Про какое место на земном шаре у нас говорили: «Кругом вода, а посредине беда»?
- Какой народ начал раньше всех носить штаны?
- Назовите одноименное произведение пяти русских и иностранных авторов.
- Откуда и когда пошло название денежной монеты «копейка»?
- Какой великий русский ученый, будучи членом почти всех иностранных Академий наук, не был членом русской Академии наук?
Ответы опубликованы в следующем выпуске рубрики «“Огонёк” — 120».
О. Мандельштам / Авторы
Так подписывался в «Огоньке» Осип Мандельштам, ставший в 1923 году его постоянным автором. В разное время на страницах журнала появлялись многие выдающиеся люди, зачастую ни в каких других изданиях не публиковавшиеся. Им посвящена эта новая юбилейная рубрика
Началось все, конечно, со стихов. В мае 1923 года в 7-м номере в «Огоньке» впервые увидела свет «Венеция» Мандельштама, спрятанная где-то в середине журнала. А номер 14-й уже открывался его стихотворением «Париж».
Однако в июле на страницах «Огонька» появляется и художественный очерк писателя: в его творчестве как раз наметился поворот к прозе. Сначала «Холодное лето». «Хорошо в грозу, в трамвае А, промчаться зеленым поясом Москвы, догоняя грозовую тучу,— писал Мандельштам в “Огоньке”.— Город раздается у Спасителя ступенчатыми меловыми террасами, меловые горы врываются в город вместе с речными пространствами. Здесь сердце города раздувает мехи. И дальше Москва пишет мелом. Всё чаще и чаще выпадает белая кость домов. На свинцовых досках грозы сначала белые скворешники Кремля и, наконец, безумный каменный пасьянс Воспитательного Дома, это опьяненье штукатуркой и окнами; правильное, как пчелиные соты, накопление размеров, лишенных величья».
Через две недели выходит очерк о знаменитой Сухаревской толкучке. «Тут же уголок, напоминающий пожарище — мебель, как бы выброшена из горящего жилья на мостовую: дубовые, с шахматным отливом столы, ореховые буфеты, похожие на женщин в чепцах и наколках, ядовитая зелень турецких диванов, отоманки, рассчитанные на верблюда, мещанские стулья с прямыми чахоточными спинками.
Удивленный человек метнулся обратно — чуть не наступил на белую пену кружевных оборок, взбитых как сливки, и, сам не зная как, очутился среди гармонистов, словно подыгрывающих к чьей-то свадьбе, разворачивая лады вежливым извиняющимся движением — так, что в воздухе висит гармонный плач.
Есть что-то дикое в зрелище базара: эти десятки тысяч людей, прижимающих к груди свое добро, как спасенного из огня ребенка. Базар всегда пахнет пожаром, несчастьем, великим бедствием. Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место».
1923-й — голодный год, журнальные публикации становятся для писателя важным источником пропитания. И вот уже два номера спустя Мандельштам дает в «Огонёк» свои воспоминания о посещении в 1920 году меньшивистской Грузии — он приплыл туда из врангелевского Крыма. «На сходнях встречает студент, облеченный полномочиями. Вспомнились распорядители кавказских балов в Дворянском Собрании.— Ваш паспорт — и ваш — и ваш! — получите через три дня. Пустая формальность.— Почему не у всех? — Формальность. Дагестанцы в бурках глядят искоса.
В городе предупреждают: не ходите в советскую миссию — выследят и схватят. Не ходим. Поедем в Тифлис, все-таки столица. Город живет блаженной памятью об англичанах. Семилетние дети знают курс лиры. Все профессии и занятия давно стали побочными. Единственным достоянием человека считается торговля, точнее, извлечение ценностей из горячего, калифорнийского, малярийного воздуха. Меньшевицкий Батум был плохой грузинский город».
К осени поэт берется за совсем уже откровенную журналистскую работу. В октябре он пишет очерк о Первой международной крестьянской конференции. «Почтительным вниманием, как ласковая бабушка, окружена гостья конференции Клара Цеткин. Этим людям есть что друг другу сказать. Вот китаец положил руку на плечо молодого мексиканца. Оба удивленные и обрадованные».
Следом Мандельштам публикует в «Огоньке» длинный, в двух номерах с продолжением, очерк «Армия поэтов» о бездарных стихотворцах. «Основное качество этих людей, бесполезных и упорных в своем подвиге, это отвращение ко всякой профессии, почти всегда отсутствие серьезного профессионального образования, отсутствие вкуса ко всякому определенному ремеслу».
Но венцом огоньковской карьеры литератора стала, конечно, беседа с человеком, который тогда был малоизвестен и звался Нюэн-Ай-Как, а теперь все знают его как Хо-ши-мин.
«Нюэн-Ай-Как — единственный аннамит в Москве, представитель древней малайской расы. Он почти мальчик, худой и гибкий, в вязаной шерстяной телогрейке. Говорит по-французски, на языке угнетателей, но французские слова звучат тускло и матово, как приглушенный колокол родной речи.
Нюэн-Ай-Как с отвращением произносит слово “цивилизация”; он объехал почти весь колониальный мир, был в северной и центральной Африке и достаточно насмотрелся. В разговоре он часто произносит “братья”. Братья — это негры, индусы, сирийцы, китайцы».
Все сотрудничество Мандельштама с «Огоньком» уложилось в один год, но за это время он показал, что может быть не только писателем, но и хорошим журналистом.
 Натуры особого кроя О способности любить и быть сильным — фактически о русском характере
Натуры особого кроя О способности любить и быть сильным — фактически о русском характере
Дети «Огонька» / Судьба
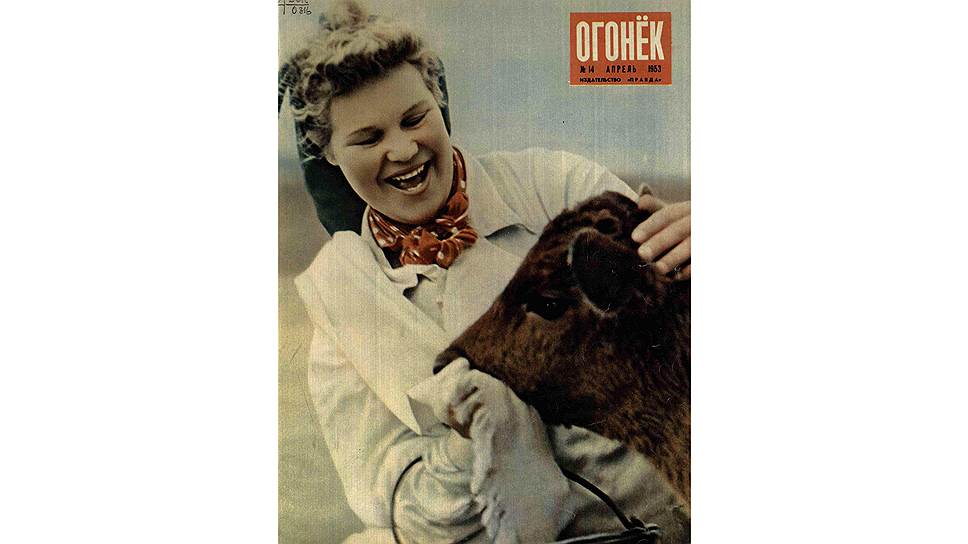
Та самая обложка, которая позвала в дорогу
Фото: Архив журнала “Огонёк”
В апреле 1953 года наш журнал вышел с фотографией молодой телятницы на обложке. До этого, в начале марта, умер Сталин, и после его сурового лика в траурной рамке — «Холодное вьюжное утро встает над Москвой... Великая скорбь народа!»
Вдруг стали выходить обложки и репортажи с улыбчивыми девчонками, лыжницами, студентками, спортсменками и целой группой колхозниц: свинарка Сахарова облучает поросят кварцем, звеньевая Самодрыга на поле, знатная доярка Лысько с ведром. Пришла весна. И снимок девушки из колхоза им. Кирова Краснодарского края тоже был наполнен светом и счастьем. «Галина Шустикова завоевала почет в своем районе большим и упорным трудом,— восторженно писал корреспондент.— Вырастить за год 225 телят, уберечь их от болезней, добиться хорошей упитанности — дело хлопотливое и трудное... Мало ли бывает забот у телятницы, если она твердо решила не иметь за год ни одного случая падежа!»
Тогда «Огонёк» выходил тиражом 550 тысяч экземпляров, и выписывали его чуть ли не все библиотеки и предприятия Советского Союза. Свежий номер появился и в красном уголке военной части в Чувашии. В своем личном дневнике, который и поныне хранят его дети, старший сержант Владимир Мареев так описал то событие: «Пришел приказ о расформировании нашей армии, и я как сверхсрочник решил уволиться. Вечером собрались все ребята, малость выпили... Здесь мне Вася Бояров показал “Огонёк”, где на обложке был портрет моей будущей жены Галины». В девушку с обложки Владимир влюбился сразу. Уволился, собрал вещи, положил в чемоданчик журнал «Огонёк» и поехал в Краснодарский край, в станицу Ленинградскую, свататься.
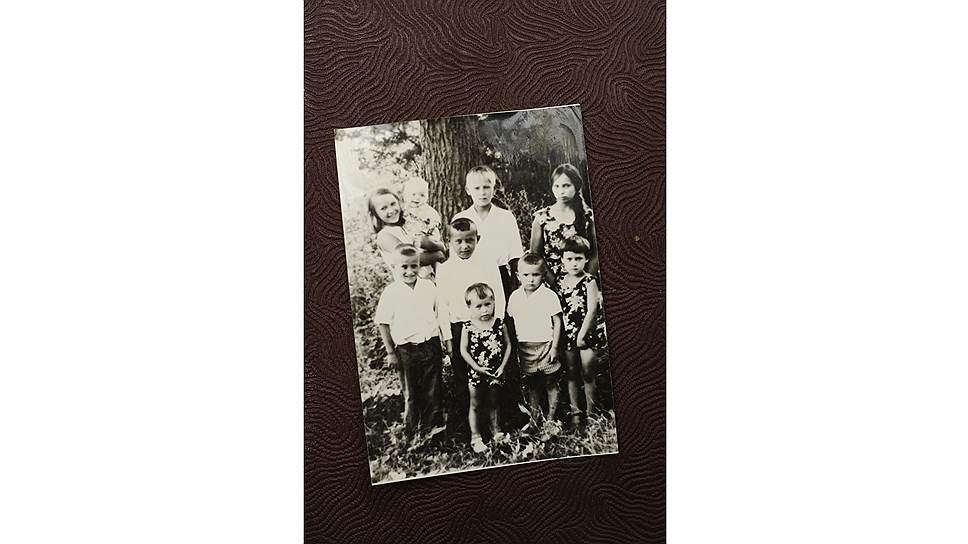
Семейные фотографии здесь главная ценность
Фото: Михаил Мордасов / Михаил Мордасов
Председатель колхоза встретил жениха неприветливо: «К Шустиковой? А с какими намерениями?» Галине тогда, после нашей публикации, писали парни со всей страны — письма ей и потом приходили еще лет десять. Правда, никто не приезжал вот так, с бухты-барахты. А тут явился какой-то тип в гимнастерке, чужак — а ну как увезет передовую телятницу? Но Владимир поспешил успокоить председателя: «Если сговоримся с Галиной, женюсь, останусь в вашем хозяйстве». После такого заявления его тут же накормили наваристым борщом и выделили машину, чтоб на ферму проехался с ветерком. «Едем мы мимо хлебных полей,— писал Владимир,— а я думаю: как же я уеду назад, если удача отвернется от меня, если не договоримся с Галей, ведь я о ней ничего не знаю, а она — обо мне».
Но встреча прошла хорошо. Мареев сразу узнал свою избранницу — она шла и улыбалась так же светло, как и на обложке. Забилось сердце у жениха, онемел от радости. Хорошо, колхозники помогли: «Галька, стой! Тут к тебе, свататься. Идите, поговорите». Разговаривали молодые люди в комнатке Гали до самой ночи. Он рассказал о себе, она коротко объяснила: детдомовская. «Я ей предложил выйти за меня замуж,— Владимир с тех пор стал записывать в тетрадки каждый прожитый день.— Она сразу не ответила, говорила, что боится, как бы я не обманул. Я пообещал так не делать. Я обнял ее, наклонил к себе и крепко-крепко поцеловал, и она сказала: “Володя! Если ты мне рассказал все искренне, то я согласна выйти за тебя замуж, значит, ты моя судьба!” Она мне постель постелила (постель-то какая была — матрац соломенный, покрытый простыней, подушка соломенная и байковое одеяло). Я разделся и лег в постель, она легла отдельно от меня на другой топчан, лежим и разговариваем. Где-то через полчаса я встал с топчана и пригласил ее в свою постель, но она говорит, что неудобно в первую ночь лечь вместе, я говорю: “Галя, если мы с тобой договорились сойтись, то тут нет никакого стыда”. И я сунул правую руку под голову, левую под ноги (вернее, под задницу), приподнял ее, она крепко обняла меня, и я перенес ее в свою постель... И что может быть после этого между молодыми, мне кажется, все должны знать. И вот с этого момента началась наша совместная семейная жизнь. Наутро к 4-м встали, умылись и пошли управлять телят».

Большая семья Мареевых. Невозможно представить, что без «Огонька» ее бы не было
Фото: Михаил Мордасов / Коммерсантъ
Так они и управляли телят всю свою жизнь, построили дом, родили восьмерых ребятишек: Владимира, Константина, Людмилу, Виктора, Сергея, Ирину, Евгению, Вадима. И всю жизнь выписывали «Огонёк». После смерти родителей, в 2012 году, дети, внуки и правнуки Владимира и Галины пригласили нас в гости, в станицу Ленинградскую.
Столы накрыли прямо во дворе, все расселись на длинных лавках. Но их было так много, детей «Огонька», что мы не знали, как всех в кадр поместить.
Пришлось вынести лавки прямо на дорогу, и фотограф долго командовал, кому встать, кому сесть: «Поближе, поближе друг к другу!
В тот день старший сын и показал нам семейные реликвии: наш журнал 1953 года и дневники отца — все слова там написаны синими чернилами и только одно имя — Галина, Галя — везде выведено красным. Эти алые буквы как-то сразу все объяснили — все, что было недосказано, недописано. О любви, что раз и навсегда. О клятве, которую нельзя предать. О простой и честной жизни, которая была. И продолжается.
А на днях Виктор Мареев, четвертый сын, сообщил нам о рождении внука: «В честь меня назвали. А еще с тех пор, как вы уехали, у сестры Людмилы появилось еще двое внучков: девочка и мальчик». После нашей публикации у Мареевых даже нашлись дальние родственники. И теперь на семейных торжествах требуются дополнительные лавки.
И. М. Поддубный / Авторы
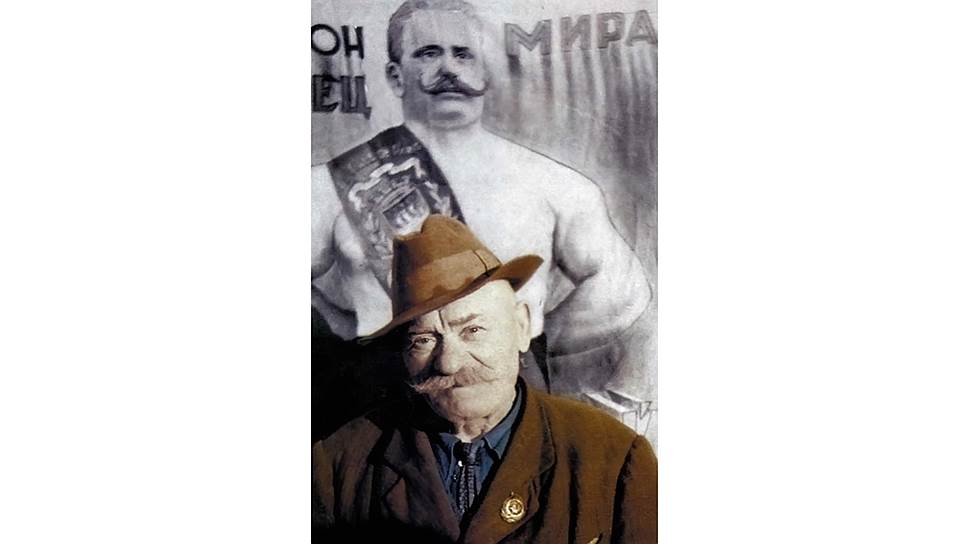
Иван Поддубный - российский и советский профессиональный борец, атлет и артист цирка
Фото: Vostock Photo Archive
Выдающий русский борец Иван Максимович Поддубный не раз становился героем «Огонька» — и дореволюционного, и советского. Но однажды, в 1947 году, он выступил как автор.
Поводом к публикации стал юбилей атлета. «Мне исполнилось 75 лет, и я решил взяться за перо и вспомнить события моей жизни»,— писал в «Огоньке» Иван Максимович.
«Ни мой отец Максим Поддубный, полтавский крестьянин, никто из родных не могли и предвидеть, что из непримечательного мальчика Вани вырастет борец Иван Поддубный»,— замечал спортсмен, шесть раз признававшийся чемпионом мира по греко-римской борьбе, которого на родине прозвали «борцовским Шаляпиным», в Европе — «королем борцов» и «чемпионом чемпионов», а за океаном — «Иваном Великим и Непобедимым».
Поддубный рассказывал о первых шагах в спорте: «Прожив более 20 лет в деревне, я уехал в Крым “искать счастья”. Большую роль в моей будущности сыграли ученики мореходных классов Антонин Преображенский и Василий Васильев, с которыми я познакомился в Феодосии, где работал портовым грузчиком, бегая целый день по трапу с пятипудовым мешком на спине. Оба были заядлыми спортсменами и мне советовали заняться спортом. Я скептически отнесся к их предложению: ведь я и так силен. Но спустя время понял, что спорт нужен не только слабому человеку, но и сильному, и увлекся им не на шутку».
Выбрав спорт своим призванием, Иван Поддубный начинал с борцовских схваток, устраиваемых на потеху публике в цирках. Так он объехал почти всю Россию, пока в 1902 году Петербургское атлетическое спортивное общество не пригласило борца, которому уже исполнилось 30 лет, представить страну на чемпионате мира в Париже.
«Я и сейчас с ужасом вспоминаю режим и диету, которую выдерживал накануне соревнований,— откровенничал в “Огоньке” Поддубный.— Ежедневно я тренировался с тремя борцами: с первым — 20 минут, со вторым — 30, с третьим — 40–50, пока каждый из них не оказывался окончательно изнуренным. Затем 10–15 минут я бегал с пятифунтовыми гантелями в руках. Далее меня сажали на пять минут в “докторский ящик” или, по-простому, в паровую ванну, где температура воды достигала 50 градусов. Потом я принимал полуледяной душ, после которого меня закутывали в теплый халат, чтобы организм отдохнул...»
Несмотря на суровую подготовку и опытного тренера-француза, первое выступление Поддубного на международном турнире выдалось неудачным. «Я заметил, что Рауль (де Буше, борец от Франции.— “О”) смазан каким-то жиром, и заявил протест судьям,— вспоминал в “Огоньке” Иван Максимович.— Приостановив борьбу, жюри проверило мое заявление. Рауля вытерли полотенцем, и борьба продолжилась. Но тело противника согревалось, и выступал пот вместе с этим жиром... Уже за кулисами я узнал, что целый месяц он смазывался прованским маслом. Однако это не помешало присудить ему победу по очкам». В своих мемуарах Поддубный отмечал: «Возвратившись в Россию, я стал тренироваться еще энергичнее». И на следующем мировом чемпионате победа досталась нашему борцу.
Свой успех атлет объяснял не только усердием, но и природными данными. «Я обладал качеством, которое знатоки спорта метко назвали “спортивное сердце”,— рассказывал Поддубный.— Врачи, исследовавшие меня после тренировок, поражались: незаметно было даже легкого утомления сердечной мышцы. Я мог развивать колоссальную энергию и не терять кураж в самые тяжелые моменты».
«Хотя я был уже признанным чемпионом, разбросавшим всех европейских борцов, антрепренеры недолюбливали меня: мои победы разбивали все их расчеты,— продолжал Иван Максимович.— Уже тогда было много дельцов, смотревших на спорт как на коммерцию. Они привыкли иметь дело с людьми продажными. Я же дорожил своим именем и честью России, которую представлял».
Поддубный объездил почти всю Европу, а в 1924 году отправился по другую сторону Атлантики. «Было мне в то время уже 54 года,— признавался в “Огоньке” спортсмен.— Через своего менеджера в Америке я вызвал на борьбу всех американских знаменитостей и находившихся там европейских “королей ковра”. По действующим в США правилам борцы-противники должны быть равными в весе. Пришлось и мне изрядно похудеть... Газеты тогда писали: “Несмотря на возраст, Иван Поддубный сохранил львиную силу и кошачью ловкость”».

Страница. Журнал “Огонёк” от 1947 года, апрель. Старейший русский борец Иван Поддубный на фоне своего плаката
Фото: Архив журнала «Огонёк»
Спустя время русский атлет вернулся на родину, ездил по стране с выступлениями, делился опытом с молодежью. Свою заключительную схватку Поддубный провел, когда ему перевалило за 70.
В 1927 году Иван Поддубный купил дом в Ейске и прожил здесь до своего ухода. Иван Максимович умер в 1949 году, два года спустя после выхода его мемуаров в «Огоньке». Ушел непобежденным.
Сейчас в этом курортном городке чтят память Ивана Максимовича, установлены три памятника и мемориальная доска на доме, где жил Поддубный. Самый большой и красивый парк Ейска носит имя «непобедимого чемпиона чемпионов». Здесь его могила и мемориальный музей. Заведующая Наталья Гинкул рассказывает «Огоньку», что музей оформлен как арена цирка шапито, ведь раньше борцы-профессионалы выступали в цирках. В музее около 3 тысяч экспонатов. Среди них подлинные вещи Поддубного, многочисленные награды, документы, фотографии, тренировочные снаряды легендарного спортсмена, а также материалы, связанные со спортивной жизнью Ейска. В городе ежегодно проходит Всероссийский мастерский турнир по греко-римской борьбе, в минувшем году он собрал более 200 спортсменов страны.
Из близких людей в Ейске живет сейчас только его крестный сын Юрий Петрович Коротков, много общавшийся с Иваном Максимовичем. Ему сейчас за 80.
На могиле Поддубного высечены слова: «Здесь русский богатырь лежит».
Ответы на вопросы из викторины «Огонька» за 1928 год, опубликованные в первом выпуске рубрики «“Огонёк” — 120».
- Адамово и глазное.
- В «Медном всаднике» А.С. Пушкина.
- Одно из значений слова «белуга» — название гудка на речных пароходах.
- Аэроплан тяжелее воздуха, а аэростат легче.
- В древности, в доказательство того, что у встречающихся нет в руках оружия.
- Вес боксеров до 51 килограмма.
- Прибалтийские государства, ранее входившие в состав Российской империи, от латинского слова limitrophus — «пограничный».
- Особняк Матильды Ксешинской при Временном правительстве был занят ЦК партии большевиков.
- Часть тепла уходит на растворение сахара.
- Преимущественно итальянцы (стены Кремля — Пьетро Антонио Солари, Успенский собор — Фиораванти и т.д.).
- Защитный зеленый цвет армейского обмундирования, впервые был применен англичанами в середине XIX века.
- Когда пьют водку.
- При отступлении французов из России в войну 1812 года они обращались к крестьянам «шер ами» («дорогой друг»). Это обращение, обрусев, превратилось в «шаромыжника» и приняло презрительный оттенок.
- Шуба не греет, а лишь сохраняет тепло тела.
- А.П. Бородин — автор оперы «Князь Игорь» и профессор химии Военно-медицинской академии.
- Остров Сахалин.
- Галлы, в отличие от римлян, носивших туники и тоги.
- «Исповедь» у М. Горького, Л.Н. Толстого, Ж.Ж. Руссо, А. Стриндберга, О. Уайльда.
- При Иване Грозном на монете было изображение всадника с копьем.
- Д.И. Менделеев (не совсем точно: в 1876 году ученый был избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук, однако тогда это была всего 2-я из 5 ступеней в академической иерархии, к тому же из-за интриг внутри академии не по родной химии, а по физике.— «О»).
 Великий искуситель Хирург Сергей Воронов как прототип профессора Преображенского
Великий искуситель Хирург Сергей Воронов как прототип профессора Преображенского

У Воронова отношение к приматам было особое
Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis via Getty Images
С начала 1920-х и до середины 1930-х «Огонёк» постоянно сообщал читателям о достижениях светила медицинской науки Сергея (Сержа) Воронова. Весь мир в те годы завороженно внимал картинам будущего, которые рисовал профессор: отсрочка старости, искоренение болезней, жизнь до 140 лет, увеличение в 2–3 раза периода активной зрелости. Знатные и богатые платили состояния, лишь бы оказаться у него на операционном столе. «Огонёк» сообщал чуть ли не о каждом его эксперименте, Воронов и сам писал для журнала статьи. Сегодня сомнений нет: именно публикации «Огонька» об опытах профессора вдохновили Михаила Булгакова на «Собачье сердце».
«Через 50 лет, а может, и раньше, можно будет совершать над людьми чудодейственные операции,— писал Воронов в «Огоньке» в 1928 году (№ 12),— пересаживать мальчикам в возрасте 8–10 лет половые железы — создать и воспитывать новую расу могучих людей, сверхчеловеков!» Он был поистине одержим евгеникой, этот виртуоз скальпеля. Впрочем, редко кто из ученых рубежа веков был ею не одержим! Например, друг и соратник Воронова — хирург Алексис Каррель, получивший в 1912 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине за трансплантацию кровеносных сосудов, был даже менее сдержан в высказываниях, настаивая на том, что умственная отсталость пролетариата передается по наследству, а люди биологически неравны (за высказывания о генетическом неравенстве другой нобелевский лауреат, Джеймс Уотсон, в наши дни лишился почетных званий — «Огонёк» писал об этом).
Впрочем, увлечение евгеникой в начале XX века объяснялось тем, что человечество в то время еще не получило «прививки нацизма» и не прошло через ад концлагерей, в которых погибли два брата Воронова. В 1920-е ему мечталось: «Мир, населенный могучими людьми — сверхчеловеками обоего пола, в возрасте, много превышающем столетний, крепкими, способными к продолжению рода, бодрыми телом и духом,— одним словом, людьми в полном расцвете сил, какой в наше время свойственен человеку лишь в возрасте между тридцатью и сорока годами». И все это сделает наука, «когда начнет превращать изношенное усталое человеческое тело в юное, крепкое, усталый мозг — в свежо и продуктивно работающий, и, что всего поразительнее,— самую посредственную натуру одарять силой гения».
Медицинский субботник
Профессор Воронов не был изобретателем ксенотрансплантологии (пересадка органов и тканей от животных человеку.— «О»), но он истово уверовал в нее чуть ли не со студенческой скамьи. Каким образом сын рядового субботника (русский субэтнос, исповедовавший иудаизм с XVII века.— «О»), отставного николаевского солдата, оказался в 1884 году в Париже, неведомо. Появившись на свет в 1866 году то ли в Воронеже, то ли в селе Шехмань Тамбовского уезда, он неожиданно вынырнул из исторического небытия сразу под свет хирургических ламп и софитов, став в 23 года ассистентом самого Шарля Броун-Секара — одного из величайших медиков того времени. Именно от него юный Самуил Воронов перенял одержимость идеей использовать для омоложения человеческого организма вещества, содержащиеся в железах животных.
«Огонёк» раскрывал перед читателем истоки метода Воронова: «Это развитие взглядов, которые еще 35 лет назад высказывал французский ученый Броун-Секар, основавший учение о железах внутренней секреции, выбрасывающих в кровь крайне важные вещества. Секар впрыскивал себе водную вытяжку из яичка животных и наблюдал значительный подъем сил и общее освежение» («Огонёк» № 36 за 1923 год).
Броун-Секара не стало в апреле 1894 года. Воронов, за полгода до этого получивший диплом доктора медицины, стал искать место — ему хотелось продолжать дело учителя, которое он уже считал по праву своим. Через пару лет его пригласили на должность хирурга и лейб-медика при дворе хедива (титул главы Египта до 1914 года.— «О»). Он переехал в Каир, перед этим женившись на Луизе Маргарит Барбе (брак был расторгнут в 1912 году). Не исключено, что именно жена сыграла роль в таком выборе места службы: Луиза слыла алхимиком и членом оккультного кружка, где бывали Андре Бретон и Пабло Пикассо. Она даже стала моделью для знаменитой картины Жюльена Шампаня «Сосуд великого дела», тогда как сам художник подозревается в мистификации с Фулканелли — бессмертным алхимиком, взбудоражившим оккультный мир Европы в начале XX века. И, как было модно в то время среди оккультистов, жена Воронова изучала древнеегипетскую религию и магию.
За 14 лет пребывания в Каире Воронов успел многое: открыл инфекционную больницу, основал школу медсестер и Египетский медицинский журнал, но главное — убедился в верности идей учителя, изучая последствия кастраций евнухов. Лишенные мужских желез, они болели, страдали ожирением, рано старели и умирали. Воронов приступил к экспериментам: «Я начал свои опыты, от которых ждал доказательств для моей теории, на баранах. Я переносил половые железы от молодого к старому и получал удовлетворительные результаты, убирал железы и все возвращалось вспять» («Огонёк» № 12 за 1928 год).
Позднее, когда Воронов был в зените славы, по Европе гуляли слухи, что он оттачивал свое мастерство не на стадах овец, а в темницах Каира, мол, хедив, заинтересовавшись опытами молодого ученого, распорядился отдавать ему приговоренных к смерти преступников. Сам профессор утверждал, что видит будущее именно за ксенотрансплантологией, потому что животные не страдают алкоголизмом и сифилисом, да и использование человеческого биоматериала неэтично и во многих случаях противозаконно даже при согласии донора.
В 1912 году Воронов, получивший к тому времени французское гражданство и сменивший имя на Серж, произвел свою первую операцию на человеке, успешно пересадив тому щитовидную железу шимпанзе.
Через год в присутствии 19 врачей он закрепил результат — «привил» правую долю зобной железы павиана 14-летнему пареньку с задержкой развития. Фото мальчика до и после операции прилагалось: явные изменения в лице пациента не оставляли сомнений — в мире науки появилось новое светило. К слову, молодой человек с «прививкой» павиана после операции быстро восстановился: догнал сверстников, получил образование и даже был признан годным к военной службе — в 1917 году ушел на фронт.
На поток

Спрос на операции Сержа Воронова был столь велик, что профессор оперировал не только во Франции (на фото операция на овце в Парижской клинике), но и на Ближнем Востоке и даже в Латинской Америке
Фото: AP
«Омоложение человеческого организма посредством пересадки в него половых желез определенных низших животных открывает много новых перспектив на благо человечества. В ближайшем будущем подросток со слабыми способностями — по причине ли плохой наследственности, или в силу плохих условий, или по каким-либо другим случайным обстоятельствам — превратится при помощи пересадки желез в блестящего многоуспевающего ученика»,— делился Воронов с читателями «Огонька» своими мыслями. И задуманное воплощал в жизнь «здесь и сейчас» — поставил операции на поток...
«Редкий случай чрезвычайно быстрого омоложения после пересадки профессором Вороновым половой железы павиана 1 февраля 1921 года. Оперированный Е.Л., 74 года, через 8 месяцев помолодел на 15–20 лет, свободно взбирался на лестницу, перепрыгивая через 4 ступеньки, поднимая тяжести, фехтовал и получил все способности и инстинкты молодого человека. За все время после операции Е.Л. чувствовал беспримерный приток сил» («Огонёк № 16 за 1924 год).
Свой метод профессор окрестил «прививкой»: он делал тонкие срезы на яичках обезьяны и вшивал их потом в мошонку человека. Воронов был не единственным, кто в то время экспериментировал в этом направлении. Например, австриец Эйген Штайнах занимался пересадкой желез, причем от человека к человеку, для чего использовал крипторхические яички (яички, не опустившиеся в мошонку и подлежащие удалению.— «О»). Кроме того, «Штейнах изобрел перевязку семепровода — канала, ведущего из яичка. Он утверждал, что в этом случае семенная жидкость застаивается в яичке и заставляет ткань выбрасывать больше целебного секрета в кровь» («Огонёк» № 36 за 1923 год).
Сколько врачей, столько и методов: «Врач Грегори в Вологде пересадил старику яичко от трупа юноши и получил приживление железы и омоложение организма», а в советском Институте экспериментальной биологии И.Г. Коганом произведены «более сотни пересадок у кур и морских свинок», при этом у старых кур не только возвращается здоровье, но они снова начинают нестись.
Но всем этим врачам было не угнаться за Вороновым по числу производимых операций. Делегаты хирургических конгрессов в Лондоне и Париже в середине 20-х устраивали ему бурные овации: Сергей Абрамович, по его собственным словам, на тот момент прооперировал 238 человек в возрасте от 55 до 70 лет, в 90 случаях из 100 результат был положительным. И мир увидел в том спасение от старости, а «Огонёк» продолжал сообщать о новых достижениях гения...
«На конференции физиологов в Стокгольме профессор Воронов заявил о проделанном опыте — он пересадил обезьяне четыре женских яичника, три из которых рассосались и исчезли, а один привился, он вспрыснул ей мужское семя и через три месяца обезьяна оказалась беременной, и доктор ожидает через полгода появление на свет человеческого ребенка» («Огонёк» № 39 за 1926 год). Еще через три номера к теме вернулись: «Обезьяна только короткое время будет ходить с человеческим зародышем, а затем будет произведен аборт». Воронов разъяснил СМИ, что шимпанзе в силу своего роста и строения не способна произвести на свет человеческое дитя. Стоит напомнить: в СССР в это же время профессор Илья Иванов в заповеднике «Аскания-Нова» тоже пытался получить гибрид человека и обезьяны. Безрезультатно.
Дом с обезьянами
Чтобы удовлетворить растущий спрос на операции, Воронову требовались доноры-приматы. В это время правительством Франции был введен запрет на истребление обезьян ради охоты и наживы. Право на отлов давалось только ученым, в числе которых был и Воронов...
«Мне посчастливилось найти как раз то, что для этого нужно,— писал он в “Огоньке”,— чудесный дворец, принадлежавший некогда владетельному князю Монакскому, а после служивший летней резиденцией лейб-медика королевы Виктории. Он находится как раз на границе Франции и Италии, высоко над Ментоной, в огромном великолепном парке, который тянется по склону к югу до самого моря. В настоящее время я устроил там ферму, на которой поселил около 30 обезьян, а через год, надеюсь, их будет 100».
В 1927 году Воронов заявил, что «вскоре в Европе и Америке обезьяньих питомников будет не меньше, чем заводов Форда».
Ажиотаж наблюдался повсеместно. В радиоэфире крутили шлягер «Monkey-Doodle-Doo», созданный Ирвингом Берлином для фильма братьев Маркс «Кокосовые орехи», с такими строчками: «Если ты стар для танцев — поставь себе железу обезьяны». В обеспеченных домах шиком считалось держать на столике пепельницу в виде обезьяны, прикрывавшей гениталии и с надписью: «Воронов, ты меня не возьмешь». Артур Конан Дойль описал омоложение и озверение главного героя вследствие гормональных инъекций в рассказе «Человек на четвереньках». Хитом баров и ресторанов стал коктейль «Обезьянья железа»: смесь джина, апельсинового сока и гренадина с небольшим количеством анисового ликера. Мир сошел с ума...
Среди тех, кто стремился подружиться со знаменитым хирургом, были сотни знаменитостей того времени. От махараджи Патиалы Бхупиндер Сингха (эффектно использовавшего автомобиль Rolls Royce для сбора мусора после того, как автокомпания отказалась продать ему очередную модель) до президента Турции Мустафы Ататюрка (он стал пациентом доктора, как и премьер Франции Жорж Клемансо). Воронова видели в обществе поэта и драматурга, а также идеолога фашизма Габриэля Д'Аннунцио и звезды кино Сары Бернар. Композитор и пианист Камиль Сен-Санс встречался с Вороновым не раз, так же как и писатель-фантаст Росни (псевдоним Жозефа Анри Оноре Бокса). В числе друзей профессора называли отца нейрохирургии Харви Кушинга и румынского короля Кэрола II. Пациенткой Воронова была даже знаменитая революционерка Клара Цеткин. Учитель Елены Блаватской, оккультный лидер Алжира и Парижа Макс Теон, оказал сильное влияние на самого Воронова, так же как и автор «Синей птицы» Морис Метерлинк — они с профессором дружили. В обезьяний питомник, как в зоопарк, часто наведывалась мегазвезда 20-х оперная дива Лили Понс...
Поэт и литературный критик Франческо Пастончи побывал на вилле Гримальди в 1928 году и оставил свои воспоминания. В то лето у Воронова гостили создатель «Русских сезонов» Сергей Дягилев и прима-танцовщик балета Вацлав Нижинский, а также скандально известная актриса и танцовщица Жозефин Бейкер. Последняя, как пишет Пастончи, упрекала хозяина, что он омолаживает только мужчин, на что Воронов отвечал, что экспериментирует и с дамами. Ходили слухи, что жертвой этих экспериментов стала вторая супруга доктора – якобы операция прошла неудачно и она умерла.
Доказательств, конечно, не было, но смерть Эвелин Карстерс Фрэнсис Боствик-Вороновой и правда была окутана тайной. Она была дочерью знаменитого нефтяного магната и делового партнера Рокфеллера, служила медсестрой в британской армии во время англо-бурской войны и была награждена Военным крестом за храбрость. Эвелин сама была ученым, философом и даже политиком, а в 1917 году стала единственной женщиной в Коллеж де Франс в статусе ассистентки профессора. Там же она и познакомилась с будущим мужем, вышла за него в 1919 году и умерла всего через два года.
Холостяцкая пауза в жизни профессора медицины затянулась на 10 с лишнем лет. В 1935 году «Огонёк» опубликовал в № 20 фото молодоженов Вороновых, путешествующих по Америке с подписью: «Воронов утверждает, что в недалеком будущем благодаря его трудам средняя продолжительность жизни человека станет равна 140 годам. На фото он (65 лет) с молодой (20 лет) женой».
Но к тому времени слава профессора уже начала меркнуть. Его даже обвинили в шарлатанстве: один из пациентов Воронова (англичанин) умер через пару лет после операции от того, что перенапряг силы омолодившегося организма, а у остальных эффект омоложения равно или поздно заканчивался, и старость возвращалась стремительно. Один из видных трансплантологов Дэвид Хэмильтон даже выпустил книгу «Афера обезьяньих желез», где пояснил, что ткани животных отторгаются человеческим организмом и все положительные изменения от метода Воронова — лишь эффект плацебо. Вскоре научный мир сумел синтезировать тестостерон, но обнаружил, что он воздействует только на половую систему и не дает омоложения. Точку в споре поставил британский хирург Кеннет Уокер, назвав работы Воронова «не лучше, чем методы ведьм и колдунов». В то время сам профессор уже перебрался за океан, из-за того, что в Европе его обвиняли в шпионаже на НКВД.
Последнее, возможно, было как-то связано с предложением Воронова советскому руководству передать его знания и опыт. «Огонёк» опубликовал очерк на эту тему в № 34–35 за 1935 год. Там говорилось, как еще в 1929 году хирург предложил прислать к нему на обучение и стажировку молодого биолога, сведущего также в зоологии и ветеринарии. Во Францию был отряжен член ВКП(б) Петр Константинович Денисов, который потом вернулся на родину с подарком — парочкой шимпанзе Розой и Рафаэлем. К тому времени уже и советское руководство остыло к методу Воронова, и обезьяны так бы и попали в зоопарк, если бы не знаменитый физиолог Иван Павлов: Денисов с приматами поселился у него в деревне Колтуши под Ленинградом.
Любопытно, что самое активное участие в гонениях на Воронова приняли его бывшие друзья из числа европейских крайне правых.
Именно они обвиняли хирурга в неэтичных экспериментах и в нарушении человеческой морали. А после оккупации Франции в 1940 году все архивы и бумаги Воронова из виллы Гримальди были конфискованы режимом Виши…
Спустя годы кое-кто из тех, кто числил себя в друзьях Воронова, отмечал в воспоминаниях, что уже к концу 1920-х он все меньше занимался трансплантологией и все больше интересовался механизмом старения. Воронов искал ответ на вопрос: неизбежна ли смерть? В одной из своих работ тех лет он писал: «Мы знали о косвенных причинах старения, о последствиях заболеваний, но мы абсолютно не знали о глубокой причине ухудшения наших органов, которое неизбежно происходит почти в точно установленный период. За известными банальными причинами смерти лежит огромное неизвестное. Можем ли мы достичь этого, проникнуть в тайну нашего организма и узнать изначальную причину старости и смерти?» Он считал, что ответ кроется где-то в механизме эволюции, на этапе потери человеческим организмом способности к регенерации тканей и органов. И в итоге занялся изучением рака...
В 1991 году старейший британский медицинский журнал The Lancet запросил пересмотр архивов Воронова и даже заявил, что «Совет по медицинским исследованиям должен финансировать дальнейшее изучения обезьяньих желез». В 1994 году появились запросы на извинение от имени медицинского общества за отрицание достижений Воронова. Еще через четыре года успех нового лекарства «Виагра» вновь напомнил миру о трудах Воронова и о роли тестостерона, а еще через семь лет опыты Воронова были расценены как начало исследований в сфере гормональной терапии, являющейся сегодня одной из основ борьбы со старением.
Впрочем, не обошлось без скандала: в 1998 году появились публикации, где в числе причин появления СПИДа у человека были названы опыты Воронова по ксенотрансплантологии. Но от этой идеи уже в начале века отказались: было доказано, что, хотя ВИЧ действительно образовался где-то в 1920-е у обезьян, он не приносил вреда человека, потому что подавлялся его иммунной системой. Фактором, способствовавшим его адаптации, стало массовое использование нестерильных многоразовых шприцов при массовых вакцинациях и инъекциях от малярии, проводившихся в Африке после Второй мировой войны...
...В 1945 году Воронов вновь пересек океан, но на вилле Гримальди не остался — переехал в Швейцарию. Местные власти запретили ему эксперименты по омоложению, и он мирно доживал век в Лозанне, где и скончался в 1951 году. Его уход тоже не обошелся без мистификации: причина смерти точно не была установлена, оторвавшийся тромб — лишь одна из версий, а могилу на кладбище Кокад в Ницце, где, как считается, покоится его прах, так и не нашли. Искали потом еще на двух кладбищах Метона и в Швейцарии — тоже пусто...
Мы к вам, профессор

Профессор Преображенский из кино на свой реальный прототип не похож
Фото: Ленфильм
Как Михаил Булгаков черпал из «Огонька» сюжеты для своих произведений.
«Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложение нарвался! Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый...» Уже одна только эта фраза, произнесенная уставшим и раздраженным голосом московского профессора и светила, должна была навести пытливого читателя повести Михаила Булгакова на то, кто является прототипом Филиппа Филипповича Преображенского. В их числе исследователи называют дядю писателя Николая Покровского, хирурга Алексея Замкова и биолога Илью Иванова, тогда как современникам было очевидно, что светило науки, оперирующее в указанной выше сфере, да еще с усами, было только одно — Серж Воронов. Дядя Булгакова, хоть и был при усах, имел другую специализацию (гинекологию), Замков приступил к исследованиям гормонов лишь через два года после написания повести, а Иванов не делал операций по омоложению, пытаясь получить гибрид обезьяны и человека без хирургического вмешательства. И никто из них, кроме Воронова, так истово не исповедовал идеалы евгеники.
Прототипы героев своих произведений Михаил Афанасьевич частенько находил на страницах газет и журналов. В частности, «Огонька». Известно, например, что в Москве при налете милиции на карточный притон Зои Шаталовой у Никитских ворот весной 1921 года были задержаны поэты Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин. Что и послужило сюжетом для знаменитой «Зойкиной квартиры» («Огонёк» писал об этом в № 10 от 1929 года). Похоже, что публикации журнала были использованы и при работе над «Собачим сердцем».
Булгаков использует в повести два эпизода, которые были описаны на страницах «Огонька» в середине 1920-х. Первый касался пересадки пожилому мужчине семенных желез павиана. Сам Воронов говорил о встрече с этим пациентом через 8 месяцев так: «Когда он явился, мой ассистент г. Дерби и я были буквально поражены веселым видом, быстрыми движениями, ясными глазами, с хитрой искоркой человека, забавляющегося нашим удивлением». А теперь вызовите в памяти отрывок из повести, где Филипп Филиппович принимает пациента: тот, омолодившись, все время подпрыгивает и подмигивает, веселясь от собственных ощущений. Второй эпизод связан с явлением в том же кабинете дамы, которой доктор намерен вставить яичники обезьяны (такие операции Воронов делал десятками). Булгаков лишь поставил все с ног на голову: главная операция в повести проводится над животным с использованием человеческого биоматериала. И вывод в этом случае может быть только один, спорящий с евгенистическими устремлениями Воронова: «Зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно?».
Полная довольно злой, но точно бьющей в цель сатиры, повесть «Собачье сердце» была написана всего за три месяца и закончена в марте 1926 года. Булгаков рассчитывал опубликовать ее в альманахе «Недра», но получил рецензию Льва Каменева: «Этот острый памфлет на современность печатать ни в коем случае нельзя». А уже 7 мая на квартиру писателя нагрянули с обыском, и рукопись, как и весь архив писателя, включая дневники и письма, была изъята и увидела свет только через 30 с лишним лет. По слухам, на булгаковскую квартиру навел агент ОГПУ, присутствовавший при ее чтении на собрании литераторов в Газетном переулке.
Герой и автор
За опытами профессора Воронова «Огонёк» внимательно следил, а доктор писал в журнал с удовольствием.
 Проверка на прочность Читатели «Огонька» были готовы к любым испытаниям
Проверка на прочность Читатели «Огонька» были готовы к любым испытаниям
Курильский спасатель / Судьба
«— Как это было, Саша?
— Да нормально.
— Сильный был шторм?
— Сильный.
— В воду лазили?
— Ребята лазили.
— А вы?
— Тоже немножко лазил».
Молодой ефрейтор Александр Мальцев, отвечая корреспонденту «Огонька», конечно, скромничал. В 1965 году он стал героем публикации о спасении советскими пограничниками японских рыбаков, чья шхуна разбилась в шторм о скалы у острова Шикотан.
От сослуживцев Мальцева удалось тогда узнать, что он, рискуя жизнью, спустил со скалистого берега в бурлящую воду трос. С его помощью удалось спасти тонущих рыбаков. Радист и капитан, до последнего остававшиеся на судне, к сожалению, погибли.
За проявленное мужество фотографию 20-летнего Александра повесили в комнате боевой славы шикотанского погранотряда. «Там о ефрейторе Мальцеве, секретаре комсомольской организации подразделения, отличнике боевой подготовки, награжденном двумя медалями, были сказаны по-военному лаконичные, но очень теплые слова»,— писал «Огонёк».
Вдобавок Александра «послали в Москву на слет лучших пограничников как представителя Курил». А, по сути, домой, на побывку, ведь Мальцев был призван на армейскую службу в 1963-м из Москвы.
«Приехал я сюда страшным размазней,— откровенно заявлял корреспонденту “Огонька” юноша.— И страдал я невероятно: жизнь кончилась... Я тогда к армии относился как некоторые пижоны: потерянное время, и все. Собирался в МИФИ, а тут после одиннадцатого класса меня призвали...»
О себе он говорил мало и неохотно. «Завершив разговор, Саша Мальцев ловко прыгнул в седло,— рассказывал “Огонёк”.— Сидел он на лошади лихо и щеголевато, было похоже на плакат: стройный, подтянутый парень, в зеленой фуражке, с биноклем на груди, автоматом за плечами, на гимнастерке — значки “Отличный пограничник” и “Отличник Советской Армии”».
«Не было подвига, была обычная добросовестная служба, вот и все»,— замечает годы спустя Александр Викторович, по обыкновению скромничая. Впрочем, свою «наградную» поездку в Москву в 1965-м вспоминает с удовольствием: «В тот год в стране широко отмечалась 20-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Нас, 48 пограничников со всего Союза, собрали в Москве. Было много встреч. Особенно запомнилась встреча с Героем Советского Союза Н.Ф. Карацупой. Его автограф и пожелания пограничникам Курил я привез в погранотряд».
«Когда вышел номер журнала с заметкой обо мне, отец купил их два десятка, раздавал родственникам,— рассказывает Александр Викторович.— А в школе, где я учился, директор устроил чтение журнала на уроках. Но мне и тогда, и сейчас неловко из-за такого внимания к моей персоне...»
После окончания службы на Курилах в 1966 году Александр Мальцев вернулся в Москву. Выучился по специальности «Оптико-электронные приборы». Работал на Московском электроламповом заводе, где дослужился до старшего инженера. Затем много лет был главным инженером завода «Криптон». Выйдя на пенсию, без дела не сидел: окончил курсы арбитражных управляющих и почти до 70 лет вел процедуры банкротства на предприятиях.
Сегодня Александр Викторович со второй женой живет в Подмосковье в доме, который они сами построили. Супруги ведут активную «огородную жизнь» и принимают многочисленную родню. А еще Александр Мальцев пишет воспоминания о своих предках.
Осенью этого года герою «Огонька» исполнится 75 лет. Поздравлять Александра Викторовича будут его 11 внуков и внучек, которые наверняка спрашивают у дедушки про его подвиг: «Как это было?».
Элементарно? / Новация
Инициатива возникла не с нуля. В 1928 году редакция «Огонька» провела первую в нашей стране интеллектуальную игру в вопросы и ответы среди читателей (и к тому же изобрела само слово «викторина» — об этом рассказывалось в первом выпуске рубрики «“Огонёк” — 120»). Успех был ошеломительный: редакционная почта, без преувеличения, ломилась от потока писем. И вот некоторое время спустя журнал устроил новое испытание для своей аудитории. Была у этого, говоря современным языком, проекта и более масштабная задача. Установка советского руководства на формирование человека нового типа — советского человека — требовала «всестороннего культурного развития». Сама же редакция назвала новую игру «маленьким опытом» над читателями.
«Культурный человек нашей страны должен быть развит гармонически,— замечал “Огонёк” в 1936-м.— Он должен соединять глубокое знание своей специальности с известным минимумом знаний в других областях науки и искусства. Можно ли назвать культурным человеком, например, блестящего математика, не посещающего театра, не читающего газет и уклоняющегося от занятий в политическом кружке?»
Начиная с первого номера и на протяжении всего года «Огонёк» публиковал серии из десяти вопросов. «Мы предлагаем читателям элементарные вопросы из области литературы, политики, искусства, техники, истории, географии,— сообщал журнал.— Каждый культурный человек может на них ответить». Существенным отличием игры от первой викторины было то, что в ней не давались правильные ответы. Нужно было проверить себя самому или в кругу семьи и друзей.
«Огонёк», впрочем, предупреждал: «Берегитесь, мы не сможем считать вас культурным человеком, если вы не ответите хотя бы на один из десяти вопросов! Пусть это послужит вам сигналом: надо поработать над собой».
Какие же «элементарные» вопросы задавал «Огонёк»? Проверьте себя, как предлагал тогда журнал: «Культурный ли вы человек? Итак:
- Прочтите на память полностью хотя бы одно стихотворение Пушкина.
- Какое движение получило в истории название «заговор равных»?
- Назовите любые пять городов, расположенных на Днепре.
- Нарисуйте «пифагоровы штаны».
- Какая разница между мартеновской и доменной печью? А между фрезерным и токарным станком?
- Из каких химических элементов состоит дистиллированная вода?
- Какой самолет называется «небесной блохой»?
- Кто автор пролетарского гимна «Интернационал»?
- Назовите одно произведение Дюма-отца и одно — Дюма-сына.
- Что такое драга?
 Штопор Арцеулова Как внук Айвазовского вошел в историю мировой авиации
Штопор Арцеулова Как внук Айвазовского вошел в историю мировой авиации
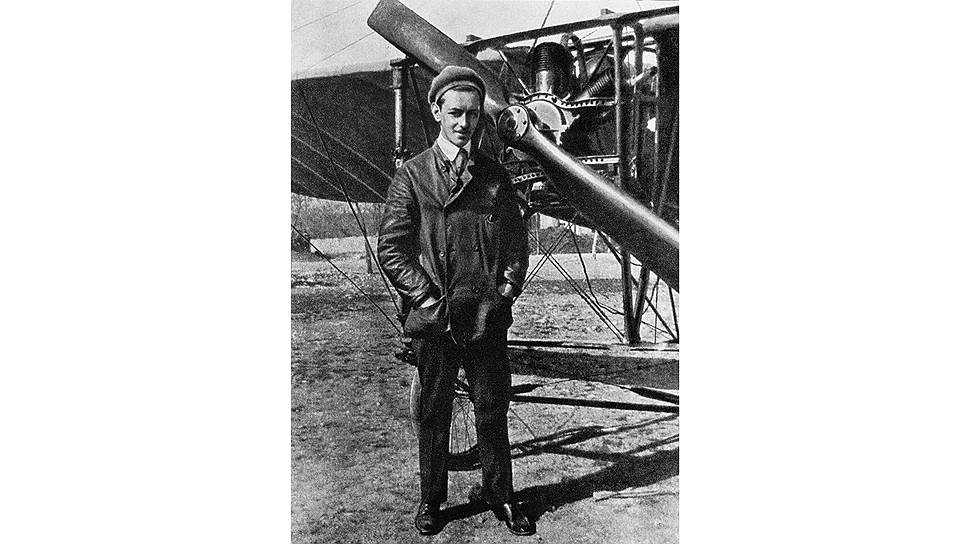
Фото: Фотохроника ТАСС
Внук Айвазовского, первый летчик, сумевший вывести свой самолет из штопора, лауреат премии послереволюционного «Огонька» и наш современник. К 120-летию журнала — о его герое и авторе — Константине Арцеулове.
В 1923 году «Огонек» принимал деятельное участие в зарождении нового вида спорта — планеризма. В безмоторном полете видели тогда не забаву, а способ массовой подготовки летчиков, столь необходимых стране, в общем, дело государственной важности. Поэтому в преддверии самых первых в СССР состязаний планеристов в Феодосии журнал учредил специальный приз — золотой жетон «За общую наибольшую продолжительность полетов за все время состязаний».
Приз этот с большим отрывом выиграл Константин Арцеулов — сконструированный им планер провел в воздухе 1 час 2 минуты и 30 секунд. Аппарат взял на том слете еще семь наград, в том числе за наилучшие аэродинамические качества, за наибольшую дальность одного полета, за наибольшее число полетов без поломок. А в «Огоньке» появился большой парный портрет: конструктора Константина Арцеулова и Леонида Юнгмейстера, который летал на его планере и взял почти все пилотские награды. Сам Константин Константинович полететь на своем детище, увы, не мог — незадолго до этого он попал в аварию при испытаниях первого советского истребителя И-400. А вот жетон «Огонька» в его семье хранится до сих пор.

«Огонек» наградил Арцеулова своим призом и написал об этом
Фото: Архив журнала "Огонёк"
В жизни Арцеулова много слов «первый». Он первым в России, еще учеником Севастопольского реального училища, построил планер — это в 1904 году, всего через полгода после полета братьев Райт, когда многие вообще не верили в летательные аппараты тяжелее воздуха. Он же первым в мире намеренно ввел самолет в штопор и сумел выйти из этого опасного маневра. В мировой истории авиации Константин Арцеулов был, конечно, не первым, но 45-м — именно такой номер стоял на его дипломе Международной федерации воздухоплавания.
Мне бы в небо
Начать биографию, пожалуй, стоит с того, что Константин Арцеулов — внук Айвазовского. И это был единственный член семьи, кому дозволялось находиться в мастерской деда, пока тот работал.
— Папа в детстве был самым маленьким, самым тихим в семье и самым любимым внуком Ивана Константиновича,— рассказывает «Огоньку» дочь летчика Ольга Арцеулова.
Ольге Константиновне уже 80 лет, но она и сегодня заведует кабинетом электрофизиологии в институте Сербского. Так уж получилось, что никто в семье больше не стал ни летчиком, ни планеристом. Впрочем, Константин Арцеулов и сам не пошел по родительским стопам. Его отец и дед по отцу были морскими инженерами. И Костю по семейной традиции отправили в Петербург в Морской корпус. Учился он хорошо, ходил в учебные плавания, но в 1908 году был забракован по легким и отчислен.
Тогда Константин попытался пойти по стопам другого деда, Айвазовского, и даже пробовал поступить в Академию художеств. Экзамены он провалил, потому что вместо того, чтобы готовиться, занимался постройкой очередного планера. И все-таки он успел поучиться у известных художников: Юона, Бакста, Добужинского. В 1910-м Арцеулов поступил в студию Лансере, но тут появился магнит попритягательнее — в Петербурге открылся первый в стране авиационный завод «Первого Российского товарищества воздухоплавания Щетинина и К°». И молодой художник, внук великого Айвазовского и сын известного морского инженера, сбежал туда простым рабочим сборочного цеха. Выбор был сделан.
И, похоже, быстро выучился: в августе 1910 года завод выпустил первый самолет новой модели «Россия-Б», а испытательный полет на нем выполнил Арцеулов.
А почти год спустя, 25 июля 1911 года, он станет летчиком уже официально. Пройдет несложные испытания на аэродроме Гатчина Всероссийского императорского аэроклуба и получит звание «пилот-авиатор». После этого Арцеулову выдадут тот самый международный диплом с номером 45.
Выйти из штопора
А уже в 1912 году авиатора призывают служить… в кавалерию. Тогда еще в армии не ценили летные кадры. Первый год войны авиатор провел в конных рейдах на передовой, получил три ордена, но рассказывать о своих подвигах не любил.
— Он вообще не любил вспоминать тяжелые моменты своей жизни. Ни войну, ни допросы на Лубянке, ни ссылку. Все это было вычеркнуто из жизни. Он всегда бы оптимистом, потому и дожил почти до 89 лет,— вспоминает Ольга Константиновна.
Арцеулов, когда лежал в госпитале после ранения, попросился в авиацию. И 22 июля 1915 года сдал положенный экзамен в воздухе, получив звание военного летчика. За этим последовали более 210 боевых вылетов (сперва разведчиком, потом истребителем), 18 удачных воздушных боев и два новых ордена: Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
О том годе войны напоминают не только награды, но и могильная табличка с надписью «Прапорщик К.К. Арцеулов. 24 августа 1916 года», она до сих пор хранится в семье летчика. Во время немецкого воздушного налета был сбит молодой русский пилот, летавший на таком же самолете, что и Арцеулов, и в газетах появилось ошибочное сообщение о гибели авиатора. Ему успели сделать надгробную табличку и даже заказать отпевание в церкви, на котором сам Арцеулов, к удивлению собравшихся, присутствовал живой и невредимый.
Армии нужны были летчики-истребители, и Константина Константиновича откомандировали в Качинскую авиашколу готовить будущих пилотов. Там он и одержал главную в своей жизни победу — над штопором.
Это неуправляемое падение самолета с авторотацией было настоящим бичом авиации той поры. В одной только Качинской школе за время работы Арцеулова из-за штопора разбилось шесть из восьми самолетов «Морис Фарман-40», все пилоты погибли. Чудом выживший после падения на «Ньюпоре-XI» летчик Червинский вспоминал: «Рули не действовали… самолет вращался носом вниз, и попытки вытянуть его только усиливали вращение».
Самое же главное — никто в мире толком не понимал физики явления: отчего вообще случается штопор. Над загадкой бились многие опытные пилоты. До верного решения первым додумался Арцеулов.
Если совсем в общих чертах: авиатор понял, что при штопоре воздушный поток обтекает самолет под слишком большими углами снизу и сбоку, поэтому аппарат падает, вращается и теряет управление. А значит, надо пытаться не задрать нос падающего самолета, а еще сильнее опустить его вниз, то есть совершить действие, для пилота неестественное.
Решив задачу в уме, надо было проверить результат на практике. И Арцеулов решил поставить эксперимент на себе. Осенью 1916 года (точную дату разные источники приводят по-разному) он сел в свой «Ньюпор-XXI» и набрал высоту 2 тысячи метров. «Фигурные полеты у нас производились на тысяче восьмистах метров, но, думаю, лишние двести метров, конечно, не помешают. Дальше от земли быть в таких случаях всегда приятно»,— вспоминал годы спустя сам авиатор в документальном фильме «Дорога в облаках».
Он сделал вираж, задрал самолет, выключил мотор и свалил машину в штопор.
«Конечно, впечатление, когда первый раз попал в штопор, было не особенно приятное, и поэтому, как только я убедился, что это действительно штопор, я сейчас же применил свои предложенные приемы, чтобы вывести самолет: ручку отдал от себя и сильно дал ногу, обратную вращению штопора. Я почувствовал, что на рулях появилось давление воздуха,— самолет я остановил»,— рассказывал в фильме Арцеулов.
Потом Константин Константинович снова свалил самолет в штопор и снова вывел его. По его настоянию была подготовлена инструкция по выходу из штопора, которую разослали всем российским военным летчикам. Так Арцеулов навсегда попал во все энциклопедии и учебники по истории авиации.
Испытатель № 1

Золотой огоньковский жетон «За общую наибольшую продолжительность полетов за все время состязаний»
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
После революции Качинская школа оказалась на оккупированной территории, а потом под контролем Врангеля. Чем в это время занимался Константин Константинович, в семье никогда не обсуждалось. По официальной версии, во главе революционной ячейки Арцеулов саботировал работу авиашколы.
— В одном историческом обществе мне намекали, что отец был на стороне Врангеля. Не знаю, в семье об этом не говорили. Но я точно знаю, что все, что делал отец, было правильно,— говорит Ольга Константиновна.— Это был самый честный и благородный человек.
В декабре 1920 года Арцеулов переехал в Москву в 1-ю высшую школу красвоенлетов на Ходынском поле. Через полгода он уже начальник летной части.
Однажды, когда Арцеулов шел на работу, к нему обратился незнакомый молодой человек в лаптях, работавший помощником шофера в какой-то воинской части. Он мечтал летать и хотел поступить в школу. Константин Константинович оценил рвение молодого человека. Он дал несколько советов, накормил, оставил ночевать в курсантском общежитии и сказал подучиться и возвращаться через год. Этим молодым человеком был знаменитый в будущем полярный летчик и будущий Герой Советского Союза Михаил Водопьянов. В авиацию он потом пришел другим путем — через школу «Добролета», но Константина Константиновича всегда считал своим первым учителем.
— Он очень любил папу и часто приезжал к нам на дачу,— вспоминает Ольга Константиновна.
Своего авиапрома в Стране Советов не было, новые машины прибывали из-за рубежа. И испытывал их Арцеулов. А в мае 1923 года ему выпала честь испытать первый советский истребитель ИЛ-400 конструкции Поликарпова, Косткина и Попова.
Из-за неверно расположенного центра тяжести испытания экспериментальной машины закончились катастрофой. Но Арцеулову повезло: он «всего-навсего» сломал руку и ногу. Когда на будущий год тот же ИЛ-400 доработали, Константин Константинович испытал и его. После этого его перевели в Глававиапром и назначили летчиком-испытателем и заведующим испытательной станцией Госавиазавода № 1. Всего Арцеулов испытал более 90 различных серийных самолетов.
А параллельно вернулся к своему еще школьному увлечению — планеризму. Свой новый планер — тот самый, который потом возьмет приз «Огонька» — он строил сперва в самолетном ангаре, а потом в правом крыле Петровского путевого дворца. Там базировался основанный Арцеуловым кружок «Парящий полет», куда заглядывали будущие ведущие советские авиаконструкторы: Антонов, Яковлев, Мясищев, Ильюшин. Перечислив эти фамилии, трудно считать планеризм обычным хобби. Это была настоящая школа советского самолетостроения. Не миновал ее и Сергей Королев. В 1929 году он вместе с авиаконструктором Люшиным построил планер «Коктебель». Первым его испытателем в Крыму стал опять же Константин Арцеулов.

Сергей Королев сидит в кабине планера «Коктебель», слева — инженер Сергей Люшин, справа — летчик Константин Арцеулов. 1930 год
Фото: РИА Новости
Почему, собственно, в Крыму? Потому что именно Арцеулов еще в юности на своей малой родине открыл лучшее в стране место для планерного спорта. Это гора Узун-Сырт, ныне более известная как гора Клементьева, место с уникальными восходящими воздушными потоками. Это и по сей день главная точка сбора планеристов, парапланеристов и дельтапланеристов всего постсоветского пространства.
Тем временем у Арцеулова появилась новая работа. Он вернулся к тому, чем занимался еще в мировую войну,— к аэрофотосъемке. В Средней Азии он снимал трассу будущего Турксиба, потом Удмуртию, Урал. Затем занимался ледовой разведкой на Азовском море. Он один из самых опытных пилотов страны: 8 февраля 1933 года его награждают почетным нагрудным знаком «За налет 500 000 километров и выше». Два дня спустя представляют к высшему летному званию — заслуженного летчика СССР.
А еще через три дня арестовывают.
Прерванный полет
— Кто-то позавидовал и написал донос,— говорит Ольга Константиновна.— Слава богу, был 1933 год, еще был Ежов. При Берии его бы точно расстреляли. А тут сослали в Архангельск. Безо всяких средств к существованию.
Мастер на все руки Арцеулов быстро нашел работу мотористом на катере. Знакомый по Москве ссыльный архитектор помог с жильем. Потом Константин Константинович стал конструктором судостроительного бюро, художником-проектировщиком архитектурной конторы, оформлял набережную Северной Двины. А для Архангельского аэроклуба соорудил самодельный балансирный тренажер для тренировки летчиков.
В 1934 году в жизни авиатора произошло очень важное событие: в Архангельск приехала будущая жена Арцеулова — Татьяна Эмерик, дочь прусского летчика Адольфа Эмерика.
— Она была на 20 лет младше. Молодая, красивая, веселая. Королев, Сергей Павлович, влюблен был в нее. Они в теннис вместе играли. Она поехала к отцу в Архангельск, как декабристка в Сибирь. C тех пор они не расставались ни на один день,— рассказывает Ольга Арцеулова.
В 1937 году ссылка кончилась, но Константин Константинович оставался пораженным в правах и не мог жить ближе 101-го километра. Летать, понятное дело, он не мог. И тогда Константин Константинович снова взял в руки карандаш и кисти и сделался книжным и журнальным иллюстратором.
В войну Арцеуловы жили в Александрове — столице 101-го километра. Карточек у них не было, Татьяна ходила по деревням и выменивала вещи на еду. Арцеулов пух с голоду. Но отчаянно работал.
— Мы выжили только благодаря моей героической маме. Она по шпалам ходила за 100 км в Москву. Там она отдавала его иллюстрации в журналы, и мы могли купить еду,— говорит Ольга Константиновна.
После войны Татьяна Арцеулова пошла к конструктору Яковлеву просить за мужа.
— Яки-истребители выиграли войну, и Сталин очень хорошо относился к Яковлеву. Яковлев попросил за папу, и в 1947 году нам уже разрешили жить в Москве. Я как раз в 1-й класс пошла,— вспоминает дочь летчика.
Реабилитировали Арцеулова только в 1956-м. Но после такого перерыва в летном стаже дорога в авиацию была для него закрыта. С техники он полностью переключился на живопись.
— Папа говорил: я не художник, а ремесленник, и брался за любые заказы,— говорит Ольга Арцеулова.— Он дни и ночи просиживал за своим большим письменным столом, пил крепкий чай и рисовал. Сотрудничал с несколькими журналами. Бывало, кто-то подвел редакцию, не успел, ему звонили: Константин Константинович, выручайте. И отец выручал.

Наследие Константина Арцеулова
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Любимыми темами, конечно, оставались небо и море, самолеты и корабли. В эту пору своей жизни Арцеулов стал и автором «Огонька». В № 45 за 1950 год его рисунками кораблей проиллюстрированы три полосы.
К 12 апреля 1961 года ему заказали изображение человека, рвущегося в космос. Еще никто не знал о полете Гагарина. А утром 13 апреля рисунок Арцеулова украшал первую полосу «Правды» вместе с портретом первого побывавшего в космосе человека.
Заработав в 1950-е годы на машину, Арцеулов первым делом поехал к Крым, на родину. Водил он так же, как и летал,— виртуозно. Даже на старости лет, когда один глаз перестал видеть, оставался за рулем.
Отчасти это заменяло ему полеты, но только отчасти. На склоне лет Арцеулов конструировал махолет — крылья, управляемые мускульной силой человека. Занимался этим на даче, куда к нему приходили многие знаменитые летчики, конструкторы, космонавты. Продолжал поддерживать связи и с планеристами. В 1973 году к полувековому юбилею того знаменательного, первого, планерного слета Арцеулов вручил молодому планеристу Пилипчуку очередной приз «Огонька». Об этом тоже вышла статья в нашем журнале.
Умер Арцеулов в Москве 18 марта 1980 года, чуть не дожив до 89-летия. На его могиле на Кунцевском кладбище установили памятник, изготовленный в КБ Антонова,— кованого орла с распростертыми крыльями на двухметровом титановом стрежне. В конце 1990-х памятник с могилы украли.
 Неизвестный Дейнека Забытые страницы творческой биографии выдающегося советского художника
Неизвестный Дейнека Забытые страницы творческой биографии выдающегося советского художника
Как будущий классик иллюстрировал повесть Ильфа и Петрова
С «Огоньком» всегда сотрудничали лучшие художники. Так, для журнала рисовал будущий классик и академик живописи Александр Дейнека. В 1928 году он иллюстрировал повесть Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Светлая личность», которая печаталась в «Огоньке» с продолжением. Чтобы понять, что это было для самого Дейнеки: именно в это время художника травили за «мелкобуржуазность» и отлучили от работы в других изданиях. И вот тогда редактор Михаил Кольцов предложил ему работу в «Огоньке». К слову, в то же время появились прославившие Дейнеку полотна «Оборона Петрограда» (Музей Вооруженных сил) и «Текстильщицы» (Русский музей). Сегодня мы печатаем малоизвестные рисунки Александра Дейнеки, сделанные для «Огонька».
Пикассо / Авторы
В середине 1920-х годов редакция получила письмо от знаменитого художника — о кубизме, подражателях и об ощущении времени. С иллюстрациями автора.
Впервые на страницах «Огонька» имя художника появилось в 1924 году — известного испанца упомянул в своей заметке Илья Эренбург. Речь шла об искусстве… жарить баранину, в котором Пикассо соревновался с другом, мексиканским живописцем Диего Риверой, с ними обоими Эренбург познакомился в Европе.
Но уже следующее появление Пабло Пикассо в «Огоньке» стало эстетической декларацией. В 1926 году по просьбе редакции художник прислал письмо, в котором разъяснял истоки и принципы кубизма. С короткой подписью — «Пикассо».
«Меня обычно представляют искателем. Но я не ищу, а нахожу»,— хлестко начинал свое письмо Пикассо. «Кубизм объяснили математикой, геометрией, психоанализом — все это только литература! — добавлял он.— Художники-кубисты сами удивлялись своим произведениям и стали придумывать теории для их оправдания. Кубизм никогда никакой программе не соответствовал».
Далее в письме Пикассо пересказывал историю возникновения этого художественного направления: «Я понял, что живопись имеет самодовлеющую ценность, независимую от реального изображения предметов. Я спрашивал себя, не нужно ли скорее изображать вещи такими, как их знают, чем такими, как их видят».
Художник писал: «Математику Прэнсэ, присутствовавшему на наших эстетических диспутах, пришла мысль придумать специальную геометрию для художников... Глупцы захотели сейчас же из этого вывести какие-то законы и общие правила, чтобы объяснить мне, как нужно писать, в то время как каждая картина является для меня не концом, не достижением, а счастливым случаем или опытом».
«Я был поражен красотой карт небесного свода,— рассказывал Пикассо в письме.— Я нарисовал однажды массу таких точек, соединенных линиями, линий, объединенных между собой, и пятен, будто повисших в небе (к письму прилагались и эти рисунки.— "О"). Я думал как-нибудь ими воспользоваться и ввести их, как чисто графический элемент, в одну из своих композиций». «Но посмотрите, как эти сюрреалисты умны! — негодовал мастер.— Они нашли, что эта графика больше всего отвечает их абстрактным идеям... Что за мания вечно вдохновляться творчеством современников! Я испытываю какую-то телесную, физическую неловкость всякий раз, когда вижу, что мне подражают».
«Меня поражает, как пользуются и как злоупотребляют словом "эволюция",— замечал художник.— В искусстве нет ни прошлого, ни будущего. Искусства, которое не может утвердиться в настоящем, никогда не будет. Греческое и египетское искусство не в прошлом, а более живучи сегодня, чем вчера». «Я всегда работал для своего времени,— объяснял он.— Я никогда не утруждал себя духом искательства. То, что я вижу, я выражаю. Я не занимаюсь ни суждениями, ни экспериментами. Когда я должен что-нибудь сказать, я говорю это так, как мне представляется нужным».
«Нет искусства переходного, а есть только плохие и хорошие художники»,— заключал Пикассо.
Письмо было опубликовано в № 20 за 1926 год. Его оригинал, увы, был утрачен.
Первая / Судьба
Анна Васильевна Куликова стала первой женщиной – директором предприятия в СССР. «Огонек» писал о ней в 1927 году. Но всесоюзную славу резко сменило глухое забвение
«Иду я на ткацкую фабрику Большой Ивановской мануфактуры,— писал корреспондент "Огонька".— Эта фабрика считается одной из самых образцовых. Большая Ивановская имеет почти рекордные цифры выполнения технических норм и самого низкого процента брака. Директор этой фабрики обладает большим умением руководства, огромным знанием ткацкого фабричного быта. Я иду и немного робею. На ткацкой фабрике Большой Ивановской мануфактуры сидит директором Анна Васильевна Куликова, вчерашняя задумчивая ткачиха Аннушка с Ивановских фабрик. Впервые приходится мне знакомиться с директором-женщиной на большом государственном предприятии».
Что известно о первой женщине-директоре? В 14 лет отец привел Аню Куликову из деревни Гаврилово на фабрику в Иваново-Вознесенск. Двадцать лет она проработала ткачихой. В 1919 году Ивановская мануфактура была национализирована.
Анна Васильевна во время революции, по ее воспоминаниям, с винтовкой караулила фабрику. После Гражданской войны женщину отправили на административно-технические курсы. А потом «партия послала на фабрику управлять,— рассказывала она,— принимала фабрику и, когда подписывала акт как новый директор, рука дрогнула, какие-то непонятные слезы сжали горло и капнули на бумагу».
Слова «феминизм» тогда в СССР не было, а вот движение освобождения женщин поражало размахом. «Огонек» писал о женщинах, сбросивших чадру, вел репортажи с женских съездов тех лет. Фото 1920-х: в антракте конференции делегатка кормит грудью ребенка. Почти через100 лет европейская политкорректность признает — в этом нет ничего неприличного. Бывшие домашние хозяйки объединялись в профсоюзы. И вот — женщина возглавила большое предприятие. Даже журналиста «Огонька» этот карьерный взлет, похоже, обескураживал. И успехи предприятия под руководством Куликовой он объяснял… женской солидарностью. Мол, ткачихи поверяют директору свои «бабьи тайны».
«К директору в кабинет ходят работницы по всем своим делам, часто никакого отношения к фабрике не имеющим,— писал "Огонек".— Ей выплакивают горести свои молодые девушки, ей рассказывают свои семейные боли жены-ткачихи, ей поверяют бабьи тайны и рассказывают о своих болезнях они. Она должна разрешить прогул, потому что муж на другом заводе как бы не пропил получку, она должна перевести ткачиху в другое место на фабрике, потому что у женщины какая-то болезнь. И при мне к ней приходили женщины, шептались и повторяли:
— Ты, Анна Васильевна, пойми, милушка, ты сама, чай, баба.
Она понимает своих ткачих и многое делает для них, чего бы и не стали они просить у директора-мужчины. Ей бывает часто очень трудно, понимая просьбу ткачихи, до конца удовлетворить эту просьбу. И она изворачивается между своими обязанностями директора и друга фабричных женщин. И за то, что она понимает, ей платят ткачихи тем, что сделало ткацкую Большой Ивановской мануфактуры образцовой фабрикой».
Как сложилась судьба Анны Васильевны Куликовой? После стремительного взлета, о котором писал «Огонек», ни одного упоминания о первой женщине-директоре. Вот они, тайны советских карьер. Нет ни слова о Куликовой в архивах музеев города Иваново — ни в Музее промышленности и искусства, ни в Музее ивановского ситца. Ивановская мануфактура была символом обеих революций, ее рабочие активно участвовали в стачках и восстаниях, Иваново называли родиной Советов (там возник первый Совет), здесь бывали Ленин, Сталин, Калинин, Фрунзе. Понятно, что к ивановским директорам у советской власти отношение было особое. Может быть, Анна Васильевна исчезла в годы Большого террора, потому и стерта память о ней? Но во всех существующих базах репрессированных Анна Васильевна Куликова также не значится. Может быть, читатели «Огонька» помогут восстановить историю ее жизни? Что стало с первой женщиной-директором?
 Вездесущий Блюмкин Как жил и умер самый неоднозначный автор «Огонька»
Вездесущий Блюмкин Как жил и умер самый неоднозначный автор «Огонька»

Бандит, графоман, одним словом, яркая личность
Фото: LAIF / VOSTOCK-PHOTO / Profuson Stock
История журнала — это и его авторы. Ничего не говорящее читателю имя «Я. Сущевский», которым был подписан материал в возрожденном после революции «Огоньке» (№ 2, 1923 год), на самом деле псевдоним Якова Блюмкина, имя которого с трепетом произносили в столице — у широкой публики оно вызывало восторги и омерзение одновременно. Написанная Блюмкиным специально для «Огонька» статья называлась «День Троцкого». По жанру — явный панегирик вождю революции, без участия которого к тому же не было бы и возрожденного журнала (известно, что именно Троцкий поддержал возобновление «Огонька», отодвинув другие проекты). То, что Блюмкин был автором текста, неудивительно: он работал тогда в секретариате Троцкого, был близок «к телу», владел пером. Потом он выступал в «Огоньке» уже под своим именем. Хотя истории больше известен как террорист, убийца немецкого посла Мирбаха и видный чекист, за плечами которого и кровавые карательные акции, и авантюрные похождения агента-нелегала. Блюмкин представлял особый тип людей, рожденных революционным взрывом 1917 года,— ни мораль, ни право, ни даже, кажется, законы физического существования на них не распространялись. О нем — публикация в нашей юбилейной рубрике.
Он был воплощением тогдашней романтики: советский террорист № 1, Джеймс Бонд и Лоуренс Аравийский в одном лице, подпольщик и красный партизан, комбриг Гражданской, неуловимый шпион, жестокий чекист, полиглот, друг поэтов, звезда московской богемы, наркоман и атлет, кутила и деляга, разгильдяй и бюрократ. В многочисленных рассказах о нем трудно отличить правду от вымысла, тем более что он и сам постарался все смешать вместе.
Начало его боевой деятельности связывают с участием в еврейской самообороне Одессы в 1917 году. Якобы вместе с королем одесских налетчиков Мишкой Япончиком он организовал Еврейскую дружину для предотвращения погромов. Но это скорее дань стереотипам. Раз еврей и боевик — значит, еврейская самооборона. Раз в Одессе — значит, как без Япончика? Факты противоречат штампам. Еврейскую боевую дружину в Одессе составляли в основном бывшие солдаты и офицеры — фронтовики с боевым опытом, в том числе георгиевские кавалеры. Вряд ли они нуждались в 17-летнем электромонтере Блюмкине, да еще и на главных ролях. Не ровня он был и Япончику — королю одесских налетчиков.
В хаосе распадающейся империи на ее южную жемчужину, Одессу, зарились все. В районе Фонтанов располагались три гайдамацких куреня. Их обитатели не спускали завидущих глаз со старорежимных блатарей Молдаванки. 2 декабря 1917 года гайдамаки пошли на приступ, резонно рассудив, что чья власть, того и добыча. Против них объединились все не ладившие друг с другом вооруженные группировки — от красногвардейцев до «бригады» Мишки Япончика. Революционные матросы с кораблей высыпали на берег. Большинство принадлежали к анархистам и левым эсерам. Именно в рядах этой партии начинал свою политическую карьеру юный агитатор Блюмкин — его партия и послала идейно окормлять матросов.
После нескольких перестрелок на улицах гайдамаки быстро поняли разницу между налетом и войной и, раздосадованные, разбежались по куреням. А матросы обратно на корабли не ушли и вместе с примкнувшими к ним береговыми забияками сорганизовались в «Железный отряд». И выбрали Блюмкина… своим командиром.
Военная карьера
«Железный отряд» вошел через два месяца в состав Особой Одесской армии, которую возглавил тоже левый эсер — Петр Лазарев. Конницей командовал Григорий Котовский, а другим отрядом — Анатолий Железняков, тот самый «матрос-партизан Железняк», что «шел на Одессу, а вышел к Херсону», а историю русской демократии украсил своей фразой «Караул устал» при разгоне Учредительного собрания.
Семнадцатилетний Блюмкин, который еще год назад закатывал банки на консервном заводе и чинил проводку в городском театре, находился с ними на одном командном уровне. А вскоре и вообще стал сначала комиссаром армии, затем командиром разведки и в конце концов — и.о. начальника штаба.
Это произойдет уже в Крыму, куда Особую Одесскую, переименованную в 3-ю Революционную армию РКК, перебросят после того, как она без боя сдаст Одессу под натиском австро-венгерских войск. Немцы вышибли ее и из Крыма, 3-я Революционная отступала, где с боями, а где и так, в противоположную от Одессы и моря сторону — на Донбасс. Там к ее военным неудачам прибавились криминальные — экспроприация 4 млн рублей в Госбанке с их последующим исчезновением. Армию решили переформировать. Блюмкин остался не у дел. В мае он уже тусовался в Москве.
Партийное назначение
Ему тогда едва исполнилось 18. На командных постах он не проявил никаких талантов, не одержал никаких побед. Армия, где он пребывал на первых ролях, только драпала и бесчинствовала. Но каков послужной список: с момента дебюта в качестве партийного агитатора всего за четыре месяца карьерный взлет до командира отряда и и.о. начальника штаба армии!
Когда Блюмкин явился в ЦК партии левых социалистов-революционеров доложить, что готов выполнить новое задание («Поступил в распоряжение ЦК»,— напишет он в автобиографии), а на самом деле попросить новое назначение, перед вождями левых эсеров предстал их герой, их мечта. В нем воплощалась революция, ее юная энергия и страсть, светлое будущее. «Революция выбирает молодых любовников»,— скажет позже о нем же, о Блюмкине, Лев Троцкий, а он-то разбирался в революции.
Конечно, в партии новое назначение для Блюмкина нашлось. ЦК направил его своим представителем в ВЧК — проводить партийную линию, значительно отличающуюся от большевистской.
Здесь основным объектом внимания было германское посольство. Блюмкин сосредоточился на нем со всей своей нерастраченной страстью. Даже монтера Московской электрической компании, пришедшего к нему в кабинет чинить проводку, завербовал и под видом монтера пришел вместе с новым агентом в посольство, чтобы вычертить план помещений («жучков» тогда у ЧК еще не было).
Обнаружив среди постояльцев гостиницы «Элит», где и сам жил, однофамильца германского посла, Блюмкин посадил его под выдуманным предлогом и под угрозой расстрела сделал несчастного сексотом и объявил того… племянником графа Мирбаха. План был такой: известить «дядю» о злоключениях «племянника» в застенках ЧК, внедрить спасенного в посольство и получать от него секретные сведения из логова врага. Идеально!
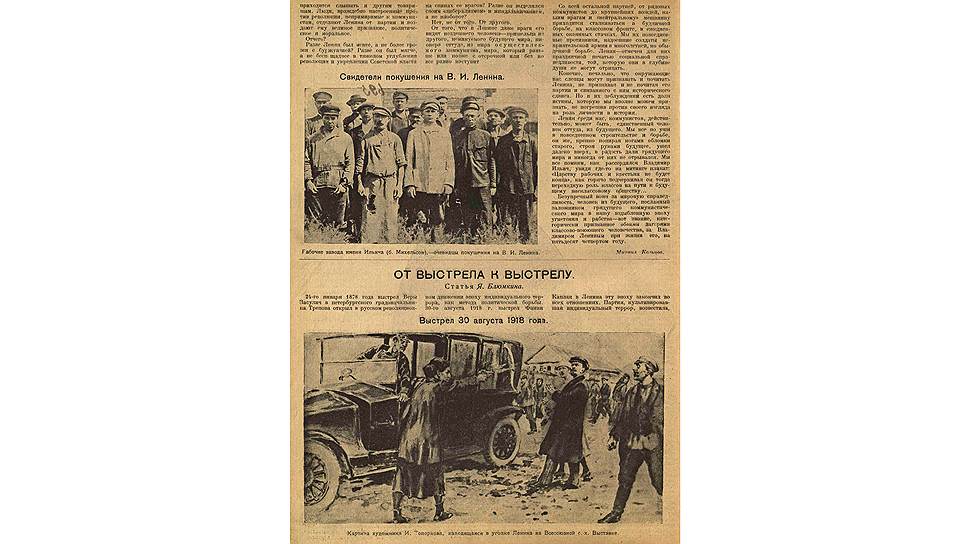
Статья Блюмкина в «Огоньке» о покушении на Ленина. Так формировалась официальная легенда об убийце Каплан
Фото: Архив журнала "Огонёк"
Правда, эту хитроумную операцию, от которой дилетантской липой несло за версту, в партии не оценили, эсеры вместо того чтобы шпионить за послом Мирбахом, решили его показательно казнить. Блюмкин сам предложил себя в исполнители теракта, и ЦК ПЛСР поручил почетную миссию ему.
Партийное поручение Блюмкин исполнил 6 июля 1918 года и вместе с эсеровским ЦК твердо верил, что эта «акция» спасет революцию, главное — вывести Россию из Брестского мира. Все, однако, пошло иначе: мятеж был подавлен, сам Блюмкин объявлен в розыск…
Семь жизней Живого
У человека 18 лет от роду крайне нестандартная репутация: он считается великим террористом и видным борцом с германским империализмом, его бережет партия, ему сочувствуют, его поддерживают. И вместо трибунала Блюмкин оказывается на Украине: готовит покушение на гетмана Скоропадского, создает ревкомы на Подолии, формирует революционные отряды, поднимает крестьянские восстания на Житомирщине, Полтавщине и Киевщине.
В марте 1919-го под Кременчугом попадает в плен к петлюровцам. Его жестоко пытают, выбивают все передние зубы, бесчувственного и голого бросают на рельсы, чтобы недоломанное домолол ближайший поезд. Он очнулся до его прихода, дополз до железнодорожной будки, сердобольный стрелочник погрузил полутруп в дрезину и отвез помирать в богадельню. Но он выжил. Кличка у него потом была — Живой.
Когда Киев заняли большевики, явился в особняк Бродского на Садовой, занятый ГубЧК, и попросил провести его к председателю.
— Я Блюмкин,— объяснил часовому с максимальной четкостью, на которую был способен его беззубый рот.— Разыскиваюсь по делу об убийстве германского посла Мирбаха.
Написал показания на несколько страниц. Никакого сожаления и раскаяния, наоборот, претензии: за что Ленин назвал его негодяем — за поганого немецкого милитариста?
Бывшие коллеги по ЧК оформили это как явку с повинной и отправили в Москву. Актуальность совершенного почти год назад преступления уже ушла. Блюмкин получает амнистию и командировку в Киев с задачей организовать покушения на Колчака и Деникина — через Украину, считалось, проникнуть к ним в тыл было легче. Рассчитывал создать диверсионные группы из своих товарищей по партии — кто ж больше подходит для террора?
Но как раз в это время начались аресты левых эсеров. В партии увязали это с повинной явкой Блюмкина в ЧК — сдал гад! Так, сразу после амнистии от Советов он получил новый смертный приговор — от своих как предатель. Свои не шутят: любимая женщина стреляет в него на свидании, но дрогнула рука (семь пуль — и все мимо); в кафе на Крещатике двое боевиков палят по нему в упор — он только ранен; бросают бомбу в его больничную палату — он успевает выпрыгнуть в окно до взрыва.
Судьба раз за разом подводит его на край, предостерегая, но кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
Стойло Пегаса
Спасается в Москве. Вновь окунается в богемную жизнь. Еще во время своего первого появления в столице, в 1918-м, он подружился с Есениным и Мариенгофом, стал своим среди имажинистов, его имя — под их учредительным манифестом. Служителей муз его принадлежность к зловещей конторе манила и интриговала. Им импонировало знакомство с представителем советской инквизиции, они им хвастались.
— Хотите посмотреть, как расстреливают? — говорил Есенин девушкам, подбивая клинья.— Я могу мигом устроить через Блюмкина.
Блюмкин любил хвататься за пистолет. Однажды в кафе имажинистов «Стойло Пегаса» на Тверской он заметил, как вошедший с дождливой улицы парень обтер грязь с ботинок портьерой. Тут же выхватил револьвер и наставил его на наглеца. Это был молодой артист Игорь Ильинский. Есенин едва того спас. «Революция не потерпит хамов,— настаивал Блюмкин.— Их надо убивать!»
В своем втором пришествии в богемную Москву он был уже знаменитостью. Маяковский ласково называет его Блюмочкой. Встречу с ним в кафе «Домино» Пастернак отмечает в дневнике. Гумилев, находившийся тогда в зените славы, во время приезда в Москву с раздражением замечает надоедливого молодого человека, который постоянно вертится рядом и бормочет его стихи. Но стоит тому представиться, отношение меняется на восторженное.
Как их всех влекла причастность к убийству! Через год такие же непоколебимые рыцари революции расстреляют самого Гумилева.
Персидский поход
А Блюмкин опять идет в армию. В Реввоенсовете Южного фронта Сталин дает ему назначение. Заведовал контрразведкой в ВЧК? Пойдет начальником Особого отдела 13-й армии! Террорист? Пусть занимается терактами в тылу у белых! Что контрразведчиком он был всего месяц, а теракт совершил всего один — неважно. И вскоре Блюмкин становится и.о. командира бригады.
Но появилась и альтернатива: «первый красный адмирал», бывший мичман Балтфлота Федор Раскольников, собирает свою Волжско-Каспийскую флотилию в поход на Персию. И Блюмкин не устоял — запросился в поход.
Каспийский вектор в походных планах возник неспроста: разочарованный неудачами революций в Германии и Венгрии, неистовый Троцкий задумал запалить огонь мировой революции с Востока. Виделось это так: с помощью экспедиционного корпуса Красной армии разворошить тлеющие очаги местных повстанческих движений, обратить в коммунистическую веру туземных вождей, привести их к власти и двигаться дальше, оставляя за собой шлейф новообразованных советских республик, вплоть до Индии. Империалистам придется бросать войска для спасения своих колониальных владений — тут и настанет черед революций в Лондоне и Париже, для подавления которых просто не будет сил. Первой на этом маршруте стояла Персия. Туда и послали с особой миссией и широкими полномочиями Якова Блюмкина.
Теперь его зовут Якуб-заде. За четыре месяца он успевает сместить одного мятежного хана, привести к власти другого, поднять восстание в северных провинциях, провозгласить Гилянскую советскую республику, создать компартию Ирана и стать секретарем ее ЦК, основать газету, которую сам и редактирует, сформировать курдский военный отряд и командовать им, получить в боях шесть ранений. Он был военным комиссаром Главного штаба Персидской Красной армии (пока она еще была).
До Тегерана оставался один перевал, 42 версты, если по прямой. Но против новой власти начались восстания в тылу. Шах перешел в наступление. А Красная армия стягивала силы для разгрома Врангеля и прислать подкрепление не могла. Больной тифом Блюмкин командовал обороной Энзели — порта на Каспии, с которого и начинался победный (в дебюте) персидский поход. Город удалось отстоять. Однако из Персии в конце концов пришлось убраться.
От прачечной до Шамбалы и иудаики
Зато Блюмкин приобрел новую репутацию — знатока Востока, и по возвращении в Москву осенью 1920 года его направили для пополнения знаний в только что созданное Восточное отделение Академии РККА (там готовили кадры для посольств, резидентур и Коминтерна — у всех у них задачи были сходными). В учебный процесс органично вписывались специфические командировки — для участия в карательных операциях по подавлению крестьянских восстаний (сначала в Поволжье, потом в Сибири). А в 1922-м учебу вообще пришлось оставить: Блюмкина пригласил на работу в свой военный секретариат сам Троцкий. По тем временам — как попасть в привратники к Богу.
Тот готовит издание трудов вождя, пишет фельетоны в «Правду», становится одним из первых авторов возрожденного в апреле 1923 года Михаилом Кольцовым «Огонька» и стремительно превращается из отмороженного террориста в одержимого советского бюрократа. Впрочем, опять ненадолго: уже осенью новый шеф командирует его к старому, и Блюмкин возвращается в ведомство Дзержинского по «профильной» специализации — во внешнюю разведку (иностранный отдел ОГПУ, созданный тремя годами раньше и возглавляемый в ту пору Михаилом Трилиссером, тоже одесситом).

Полоса «Огонька» с перечнем авторов. Блюмкин среди них
Фото: Архив журнала "Огонёк"
Оперативная задача знакомая: после провала очередной революции в Германии вновь актуальной становится идея запалить Запад с Востока, а Блюмкину поручено создать резидентуру в Палестине — едва ли не первую сеть советской разведки за границей. С документами Моисея Гурсинкеля он объявляется в конце 1923 года в Яффо — портовом городе рядом с недавно основанным поселком Тель-Авив (это главные морские ворота в Палестину) и открывает там… прачечную. Удобнее крышу для связи с информаторами придумать трудно, да и коммерчески затея оказалась выгодной: предприятие процветало.
Насколько эффективной в итоге оказалась палестинская резидентура — вопрос риторический. Этого никто не знает, зато известно, что уже весной 1924 года Лубянка отзывает хозяина прачечной из Яффо в Москву, где он уже в новенькой форме с нашивками комкора на рукаве получает очередное назначение — отправляется командовать войсками ОГПУ в Закавказье.
Первая миссия в этом качестве привычная — карательная. Блюмкин (вместе с 25-летним зампредом грузинского ГПУ Лаврентием Берией) активно участвует в кровавом подавлении меньшевистского восстания в Грузии. Но вскоре из палача вновь превращается в разведчика — полпред ОГПУ в Закавказье Соломон Могилевский (возглавлявший ИНО до Трилиссера) налаживает разведывательную работу на турецком и персидском направлениях и просит санкции у Дзержинского использовать Блюмкина как редкого профессионала — спеца по Персии с опытом нелегала на Востоке.
Правда, реального опыта и квалификации у «редкого профессионала» было по минимуму, но кто ж в ту пору обращал внимание на такие мелкие детали — любой ценный ресурс чекистами использовался по максимуму. И вот уже, сменив форму комкора на драный халат и дорожную суму, Блюмкин слоняется под видом дервиша по Персии, Афганистану и вроде бы даже добирается до Индии и Непала. А еще осваивает приемы восточных единоборств, привыкает к наркотикам, много пьет, пользуется успехом у женщин, инициирует создание лаборатории ГПУ по изучению техники передачи мыслей на расстоянии…
В конце 1926-го Блюмкин оказывается уже в Монголии, где курирует местную спецслужбу — Управление внутренней охраны. Но и тут место назначения — лишь база для проникновения в соседние страны. Не успев толком обжиться в Улан-Баторе, он отправляется в Китай, преодолевает полный опасностей почти 1000-километровый путь по пустыне Гоби, становится советником мятежного генерала Фэн Юйсяна, нового друга СССР, участвует в боях, создает резидентуры в китайских провинциях и Тибете, тогда еще отдельной стране. Пользуясь случаем (раз уж занесло в такие края), ищет заветную Шамбалу и «центр силы мира», а через четыре месяца, вернувшись в Улан-Батор, затевает экспедицию по поиску сокровищ барона Унгерна.
Оседлое существование Блюмкину претит, он достает своей гиперактивностью всех, а особенно советскую колонию в монгольской столице. Москву засыпают докладными о его художествах, тем более что поводы он дает постоянно: то бестактно распекает какого-то местного советского начальника в присутствии подчиненных и жены, то пообещает кого-то расстрелять, то, напившись на новогодней вечеринке, клянется в любви и верности бюсту Ленина, а потом на него же и наблюет…
В ноябре 1927-го Блюмкина возвращают в Москву, где его ждет новое назначение: с учетом палестинского «опыта» ему поручено создать и возглавить чекистскую сеть теперь уже на всем Ближнем Востоке. Непоседливый комкор начинает с яркого креатива: предлагает использовать для легализации разведывательных структур возникшую тогда в США и Европе моду на древние еврейские книги и манускрипты. Антиквары и букинисты охотились за артефактами иудаики по всему миру, но наибольшее количество раритетов находилось в СССР — Блюмкин решил освоить эту золотую жилу.
«Видимая торговля и скупка еврейских книг,— писал он в докладной записке Трилиссеру,— являются со всех точек зрения весьма удобным прикрытием для нашей работы на Ближнем Востоке. Она дает и связи, и возможность объяснить органичность своего пребывания в любом пункте Востока, а равно и передвижение по нему». Докладная была поддержана руководством: так в октябре 1928 года на рынок торговли еврейскими древностями вышел невесть откуда появившийся новый крупный игрок — персидский купец Якуб Султанов.
Киты европейского антиквариата, которым он разослал заманчивые предложения из своего константинопольского офиса (обращался к самым авторитетным фирмам, торговавшим иудаикой), сначала приняли его за афериста, потом пытались развести новичка как лоха. Но не тут-то было. И вскоре к нему выстроилась очередь из претендентов на имеющееся у него богатство — от клиентов, связей и заказов отбоя не было. Даже при том что первую же фирму (одну из ведущих в Европе), заключившую с ним контракт, Якуб Султанов изящно развел: остался с товаром, а выручку за него снял по неустойке. Внешне все выглядело безупречно: партнеры сами сорвали условия контракта, поскольку не прислали своего эксперта в Москву, а причиной всему форс-мажор — не удалось получить въездную визу в СССР. Такая вот незадача…
Черная метка
О том, каких успехов мог бы добиться на новом поприще Блюмкин, остается только гадать: сеть росла, представители «фирмы» колесили по странам и континентам, создавали филиалы, вездесущий Якуб Султанов возникал то там, то здесь. А потом пришел 1929 год, и из СССР выдворили одного из главных ее основателей — Льва Троцкого.
Известие повергло Блюмкина в шок, и в апреле 1929-го он сорвался: оказавшись по делам службы в Константинополе, куда двумя месяцами раньше с парохода «Ильич» сгрузили изгнанного «демона революции», Блюмкин не удержался от контакта. Впоследствии на допросах он заверял, что совершенно случайно столкнулся с сыном Троцкого, Львом Седовым, на улице. Потом, спустя несколько дней, встретился и с самим Троцким. Тот стал делиться планами — как всегда у него, революционными. Блюмкин понял, что влип, и еще больше в этом убедился, когда через два с лишним месяца Седов попросил передать кому-то из членов семьи в Москве две книги, где между строк симпатическими чернилами были написаны письма отца…
С опасным грузом Блюмкин прибыл в СССР, и поначалу ничто не предвещало беды: на Лубянке главу ближневосточной сети встречают как героя, отчет у него принимает сам Менжинский — председатель ОГПУ, Блюмкин выступает с докладом перед коллегами о положении на Ближнем Востоке, начальство одобряет планы расширения разведывательной сети, идет активный подбор кадров. А еще у Блюмкина новая любовь: коллега (сотрудница ИНО), красавица, фактически иностранка (всего год в СССР) — Елизавета Горская.
Эту фамилию ей дали уже на Лубянке. А родилась она Лизой (скорее всего Элишевой) Розенцвейг в селе Ржавенцы на Буковине, неподалеку от Хотина. Тогда это была Австро-Венгрия. За плечами три европейских университета, в активе — семь языков и нелегальная работа на советскую разведку во Франции. Оттуда — в Москву, в аппарат ИНО, где ее и заметил Блюмкин, а она не заметить его не могла — герой, террорист, легенда разведки, неуловимый шпион, горящий глаз… У Лизы забилось сердце, когда, вернувшись из отпуска, она увидела на перроне Блюмкина с огромным букетом цветов. Он встречал ее! Так начинался их роман. Дата зафиксирована в протоколах — 5 октября 1929 года.
Бесстрашный Блюмкин умел справляться с опасностями, выходить из самых угрожающих ситуаций, рисковать и блефовать. Если бы еще так же он умел держать язык за зубами! Увы, о его контактах с Троцким Лиза узнала одной из первых. Она уговаривала Блюмкина «раскрыться перед партией» — пойти к Трилиссеру и доложить обо всем. Потом пошла к Трилиссеру сама. Он выяснил подробности. Вник в детали личного свойства. Велел передать Блюмкину, чтобы тот явился добровольно.

Троцкий был для Якова Блюмкина идолом
Фото: Science Source / Library of Congress / DIOMEDIA
Но он — исчез. Лизе позвонил через несколько дней, назначил встречу. Та заехала к Трилиссеру — получила инструкции. Свидание было бурным: Блюмкин сообщил, что решил не идти ни в ГПУ, ни в ЦК, а на время исчезнуть — отсидеться на Кавказе, где у него друзья и деньги, а там, глядишь, можно будет вернуться. Он попросил ее заехать к нему на квартиру, взять вещи. Она отказалась: опасно (на самом деле таковы были инструкции: не дать ему ничего забрать — улики).
— Ладно,— согласился Блюмкин,— поеду налегке. Проводишь?
— Конечно!
Она знала, что на улице их встретят оперативники ГПУ и арестуют. Но те опоздали. Пришлось сесть с ним в такси, хотя ей было велено этого не делать. Она надеялась, что теперь их схватят на вокзале. Но и на вокзале все было чисто. Кроме одного: поезд на Ростов, которым Блюмкин собирался ехать на юг, отменили.
— Это катастрофа,— произнес он побелевшими губами.— Был последний шанс. Теперь меня точно шлепнут.
Она уговорила его поехать к ней, провести последнюю ночь вместе, все равно следующий поезд завтра. Их взяли по дороге — на Мясницкой: такси остановили, Блюмкину предложили перейти в другую машину. Он вышел молча. Потом обернулся к ней, сказал с улыбкой:
— Ну, прощай, Лиза. Я ведь знаю, что это ты меня предала…
Мнения в коллегии ОГПУ при рассмотрении дела Блюмкина разделились. Те, кто имел отношение к разведке, предлагали ограничиться в отношении отступника тюремным сроком, каратели — Ягода, начальник секретной части Агранов, начальник оперативного отдела (и двоюродный брат Лизы) Карл Паукер — настаивали на расстреле. В итоге решили — большинством — расстрелять. Сталин утвердил это решение на политбюро.
Когда приговор объявили Блюмкину, он якобы спросил: «А о том, что меня расстреляют, завтра будет в "Известиях" или "Правде"»? Есть и другая легенда: в подвале Лубянки перед расстрельным взводом, вроде бы крикнул: «Стреляйте, ребята, в мировую революцию! Да здравствует Троцкий! Да здравствует мировая революция!» И запел «Интернационал».
P.S.
Так ли было на самом деле или как-то иначе, не узнать. Известно только, что Лиза, после того как, по указанию Политбюро, было проверено ее поведение в деле Блюмкина, осталась в ИНО и вскоре стала «женой по легенде», а затем и настоящей женой и партнером видного нелегала Василия Зарубина, во время войны резидента советской разведки в США. А знаменитой стала не только как жена резидента: она сыграла ключевую роль в краже секретов атомной бомбы, завербовала около 20 участников проекта «Манхэттен» (среди завербованных ею была и последняя любовь Эйнштейна, Маргарита Коненкова, жена выдающегося русского скульптора).
Когда в уже перестроечной Москве Елизавету Зарубину сбила машина, ей было 86 лет. О Блюмкине все эти годы она не вспоминала. Но ее имя впервые всплыло в прессе в связи именно с ним, Яковом Блюмкиным...
«Такой молодой, глупый» / Версия
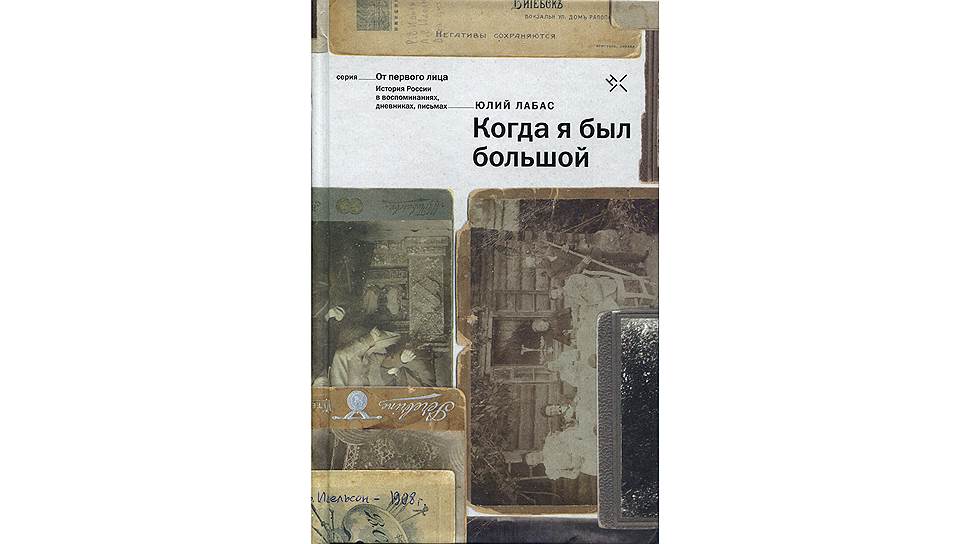
Яков Блюмкин — фигура мифическая. Воспоминаний, в которых не тиражировались бы легенды о нем, почти нет. Редкое исключение — неожиданные мемуары Юлия Лабаса, главу из которых публикует «Огонек»
В гигантской мастерской мама поселилась не одна: вселила подруг — Еву Розенгольц, Лену Прибыловскую и уж не помню, кого еще. Жили общим скудным хозяйством. Следует заметить, что в дом ВХУТЕМАСа эпизодически наведывались куратор ВЛКСМ (и, надо полагать, ОГПУ) Александр Николаевич Цацулин и меценатствующий чекист, в прошлом подозрительно быстро прощенный большевиками убийца немецкого посла Мирбаха Яков Григорьевич Блюмкин, наш резидент в Стамбуле, перед тем — кровавый подавитель восстания барона Унгерна в Монголии и участник попытки разжечь революцию в Иране, а еще, то ли правда, то ли миф, спутник художника Н. Рериха — искателя Шамбалы. Кто знает, не существовал ли тогда план разжечь пролетарскую революцию даже в Тибете?! Впрочем, по некоторым слухам, Блюмкин, переодетый ламой, сопровождал Рериха с особым заданием ОГПУ: отыскать Шамбалу и выведать у мифических духовных владык способ гипнотического воздействия на человеческие толпы, вроде того, которым владел сказочный гюлленский крысолов. Позже с той же самой целью по Тибету тщетно рыскали нацистские шпионы. Гитлер ведь вполне серьезно верил в существование каких-то «князей ужаса», которые диктуют из Шамбалы историю всему человечеству. Однако у нацистов этот мистический бред хотя бы не шел вразрез с их теорией. Они ведь не штудировали «Диалектику природы» Ф. Энгельса и не величали себя «материалистами» в отличие от большевиков!
А до революции губастый чернявый мальчик Яша Блюмкин был эсер-максималист, а заодно полиглот, поэт-имажинист и, после многократных смен занятий в Одессе, книгоноша в питерской «Лавке писателей». Он добывал книжные раритеты для библиофила А. Грановского. Откуда и пошло злополучное знакомство сестер Идельсон (младшая, Раиса Идельсон, во втором браке была замужем за Александром Лабасом.— «О») с этой эксцентричной особью.
В Октябрьскую революцию эсеры-максималисты действовали заодно с большевиками. Вместе брали Зимний, разгоняли «Учредилку». Но вдруг в вопросе Брестского мира возникли разногласия. Эсеры были за продолжение войны, а большевики — за мир любой ценой, имея в виду территории.
Результатом стало провокационное убийство немецкого посла эсером Блюмкиным и бунт левых эсеров, подавленный большевиками с необычайной жестокостью.
Блюмкин был тогда в личной охране Ф.Э. Дзержинского. Он бежал и бесследно исчез. Поиски ЧК оказались тщетными. Таковы исторические псевдофакты. Мы все это знаем из советских учебников.
А как на самом деле? В июле 1918-го Блюмкин явился в немецкое посольство не один, а с неким громилой-матросом Николаем Андреевым. Толовая бомба Блюмкина не взорвалась. Сам он, убегая, зацепился штанами за железную ограду. Андреев хладнокровно ухлопал Мирбаха из «маузера», снял с ограды Яшу Блюмкина, и вместе они удрали на грузовике. ВЦИК решил: «Наш Яша хочет воевать с немцами. Пошлем его на Украину в партизанский отряд Щаденко». Так и сделали. А между тем был объявлен всероссийский розыск «исчезнувшего» Блюмкина! Покушение стоило свободы и жизни многим ни в чем не повинным левым эсерам. Это была очередная, хорошо продуманная большевиками провокация с целью избавиться от надоевших союзников, и не более.
Тетя мне рассказала несколько любопытных эпизодов. В 1919 году Блюмкин, «прощенный» после покушения на Мирбаха, сидел в «Метрополе» и громко декламировал стихи Н. Гумилева. Вдруг в зал вошел Гумилев и спросил:
— Много вы знаете моих стихов?
— Все! — самоуверенно ответил Блюмкин.
— Мне лестно, что герой, известный террорист, столь высокого мнения о моих стихах,— ответил ему Гумилев и публично пожал Блюмкину руку.
Тогда еще для русской интеллигенции террористы не были «нерукопожатными» людьми! Позже в стихотворении Гумилева появилось упоминание о Блюмкине: «…Человек, среди толпы народа застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи…» А в другой раз (не помню, до или после убийства Мирбаха) в том же «Метрополе» Блюмкин важно восседал за отдельным столиком и просматривал какие-то списки. Подошел Осип Мандельштам:
— Яша, что читаешь?
— А, ерунда, расстрельные списки. Хочешь, и тебя впишу?
Мандельштам попросил у Блюмкина список и тотчас разорвал пополам, а потом бросился бежать. Блюмкин — за ним:
— Стой! Убью!
Мандельштам кинулся к покровительствовавшей ему мадам Каменевой. Каменева позвонила Феликсу Эдмундовичу и подозвала к телефону Мандельштама. Дзержинский вскричал:
— Позор! Мерзавец! Позорит знамя революции! Расстреляю!
Осип Эмильевич взмолился:
— Пощадите Яшу, он ведь такой молодой, глупый.
Блюмкину, видно, все-таки тогда досталось на орехи. Назавтра он бегал по Москве с пистолетом:
— Доносчик, негодяй! Застрелю!
Мандельштама предупредили. Он с перепугу решил в ту же ночь уехать в Питер. Вошел в вагон, занял место. И тут в тот же самый вагон входит… Блюмкин, зачем-то командированный в Петроград. С сардонической улыбкой снимает портупею с кобурой и демонстративно закидывает на верхнюю, вещевую, полку. Оба промолчали всю дорогу. В Петрограде, не прощаясь, разошлись в разные стороны. По крайней мере, так эту историю Блюмкин и жена Мандельштама, Надежда Яковлевна, однокашница моей матери, через несколько лет рассказали (в разных версиях) моей тете. Ведь Яша тоже любил стихи Мандельштама.
В конце октября 1929 года глубокой ночью в нашей квартире 36 дома 21 по Мясницкой раздался звонок. Мать в одной рубашке подбежала к двери:
— Кто там?
— Откройте! Это я, Яша Блюмкин. За мной гонятся!
Его впустили с растерянностью и испугом. Кто гонится? Почему? Ведь Блюмкина все побаивались, зная, что он важный чекист.
Войдя, Блюмкин сбивчиво рассказал о том, что привез какие-то троцкистские инструкции, обращение к оппозиции, а также рассказал, что некий подчиненный командарма Тухачевского, роясь в архивах царской охранки, наткнулся на очень странную бумагу. Некто из членов ЦК большевистской партии настрочил в полицию донос на другого члена ЦК, депутата Думы и в то же время провокатора Малиновского. Что-де тот фактически занимается антигосударственной деятельностью и плохо справляется со своими прямыми (провокаторскими?!) обязанностями.
Автором доноса в охранку (подпись, если я не ошибаюсь, «Фикус») по всем признакам был не кто иной, как сам Коба, он же Иосиф Виссарионович Джугашвили!
Блюмкин все сгоряча выболтал дружку — Карлу Радеку (поляки его звали Карл Крадек, по-польски «Карл-вор») и собрался было по своим бумагам разведчика тотчас улететь на аэроплане обратно в Турцию, чтобы там передать фотокопию находки Льву Давидовичу Троцкому, пребывавшему тогда то ли в Стамбуле, то ли на Принцевых островах: «Если доверенные мне документы попадут к Троцкому, здесь власть перевернется!». Радек, однако, немедленно заложил Блюмкина, и теперь все пропало. Блюмкин метался по громадной квартире.
— Никому не открывайте дверь. Буду стрелять!
Потом он позвонил врачу Григорию Лазаревичу Иссерсону:
— Гриня, достань мне яд!
— Зачем тебе?
— Я завалил операцию, за мной гонятся, мне грозит расстрел!
— Так у тебя пистолет на боку.
— Из пистолета не могу.
— Других мог многократно. Что же себя не можешь?
— Себя не могу.
— А я не травлю людей, я их лечу,— спросонья сказал напуганный Иссерсон и бросил трубку.
Блюмкин как пойманный зверь метался по квартире:
— Жить! Жить хочу! Хоть кошкой, хоть собакой, но жить!
Под утро, после бессонной ночи, Блюмкин позвонил некоей Лизе (Лиза Горская, любовница Блюмкина и приставленный к нему соглядатай ОГПУ, в будущем подполковник ГРУ Зарубина).
— Лиза, приходи на Мясницкую и принеси мою шинель с Арбата — на улице холодно (на Арбате была квартира Блюмкина. Вот наивность!). Надеюсь, придешь ОДНА? Собеседница запротестовала, мол, конечно же, приду одна. Вскоре Блюмкин ушел, предупредив:
— Никому, кроме меня, не открывайте, скоро вернусь.
Блюмкин же больше не вернулся. В дверь громко застучали сапогами:
— Откройте: ОГПУ!
Вошли:
— Где вещи Блюмкина?
Студентки молча показали.
Назавтра всех студенток вызвали в ОГПУ к Мееру Абрамовичу Трилиссеру. Взяли подписку о невыезде. Между прочим, «уходя за шинелью», Блюмкин оставил в фальковской мастерской свое шикарное кожаное пальто «чекистского» покроя. (Через много лет мама с тетей подарили его бывшему директору ГОСЕТа Арону Яковлевичу Пломперу, вернувшемуся после лагерной отсидки домой.) А через неделю после ареста Блюмкина в квартиру вошел Цацулин (он заходил как-то к маме при мне после войны в серой мидовской форме):
— Девочки, будете жить. Блюмкин перед расстрелом рассказал, что ворвался к вам в квартиру, угрожая оружием, и ни с кем из вас не общался.
Трилиссера вскоре выгнали из ОГПУ, а гораздо позже, 2 февраля 1940 года, расстреляли. Были смещены со своих постов и затем расстреляны все три начальника Иностранного одела ОГПУ — НКВД, занимавших этот пост после Трилиссера. Раньше того, в 1936 году, был расстрелян и майор Штейн, по приказу Сталина и Ягоды тоже рывшийся в архивах охранки (ему было велено срочно отыскать там компромат на опальных вождей, обреченных на казнь в 1937-м) и, по слухам, откопавший вместо того, к своему ужасу, целую папку доносов товарища Кобы на своих соратников по партии. К папке было приколото фото. Заодно расстреляли все чекистское начальство Штейна и почти поголовно весь высший комсостав РККА, в первую очередь участников Гражданской войны.
Кто знает, может быть, и вся сталинская паранойя развивалась на почве безумного страха разоблачения его как бывшего провокатора — платного агента царской охранки?
Любого открывшего чемоданчик Блюмкина и просмотревшего лежавшие в нем взрывоопасные документы, несомненно, ждала смерть. Не исключаю, что содержимое чемоданчика (тем более папку, раскопанную майором Штейном) чекисты поспешили засунуть в какой-то сейф и просто боялись вскрыть или уничтожить при свидетелях. Риск любых действий с документами подобного рода, учитывая тогдашнюю бюрократическую отчетность и взаимное соглядатайство в ОГПУ, был равновелик. А во время гражданской войны в Испании туда выехал резидент иностранного отдела НКВД Александр Михайлович Орлов (Лев Лазаревич Фельдбин). Оттуда он бежал в США и увез с собой кое-какие документы, которые там положил в банк и завещал опубликовать через 40 лет после его смерти (последовавшей в 1973 году). Условием была безопасность стариков-родителей, оставшихся в СССР. Известно, что родителей Орлова, в отличие от тысяч других членов семей «врагов народа», не тронули. А наш шпион Михаил Александрович Феоктистов уже при Брежневе дважды отыскал квартиру постоянно ее менявшего Орлова в США и получил заверение, что документы не будут обнародованы раньше вышеозначенного срока.
 Советский образец жизни Фотоискусство на службе пропаганды
Советский образец жизни Фотоискусство на службе пропаганды

Легко одетые девушки кокетливо позируют на камеру — такой была история для заграницы
Фото: © М.Жотикова-Шайхет
Фотоочерк о 24 часах из жизни семьи московского рабочего, опубликованный в начале 1930-х в «Огоньке» и немецкой пролетарской газете Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, стал витриной советского образа жизни на Западе. Что для этого пришлось приукрасить и как сложилась судьба тех, кто первым поставил фотоискусство на службу пропаганде, выяснял «Огонек».
Белая скатерть на столе, стакан с чаем на блюдце, полная сахарница. Сухопарый мужчина в мешковатой рубахе с папиросой марки «Басма» во рту (это которые, по рекламному слогану от Маяковского, «хороши весьма») глядит на газету, держа ее на вытянутых руках. За ним — разлапистый фикус и плотный строй книг на стеллаже. «Николай Федотович Филиппов завтракает»,— сообщает подпись к этой фотографии на обложке 30-го номера «Огонька» за 1931 год. Строчкой ниже — идеологически выверенное пояснение: «Правда о жизни советских рабочих дошла до миллионов пролетариев, угнетаемых капитализмом».
Это для советского читателя. А что для заграничного?
С обложки немецкой иллюстрированной газеты прокоммунистической ориентации Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (A-I-Z), вышедшей немногим раньше,— почти по-голливудски улыбаются, задорно глядя в камеру, Варя (в издании ошибочно Вера), дочь Николая Федотовича, и ее подруга Надежда. Обе в открытых белых майках, с по-офицерски загорелыми руками, волосы, коротко стриженные, развеваются на ветру. Каждая держит двумя руками по массивной теннисной ракетке. Подпись к снимку обещает «правдивый фотоотчет, многогранный и увлекательный, о том, как живут девушка, дочь московского рабочего Филиппова, ее родители и братья, рассказ, который представляет особый интерес для каждого, живущего за пределами Советского Союза».
Две такие разные обложки, для внутреннего пользования и на экспорт,— из одной съемки. Ее целью было показать «правдиво» через повседневную жизнь рабочего человека в молодой советской стране «достижения» первой пятилетки. Годы спустя и по сегодняшний день в учебниках и энциклопедиях, отечественных и зарубежных, по фотоискусству этот очерк под названием «24 часа из жизни семьи Филипповых» значится первым образцом фотопропаганды.
Наглядная кооперация
«Общество друзей СССР в Австрии и Германии решило устроить выставку фотографий, показывающих картину строительства социализма в Стране Советов,— рассказывал "Огонек" предысторию фотопроекта в номере за 1931 год.— Для этой выставки бригада Союзфото (государственное агентство, курировавшее выпуск фотоиллюстраций в советской прессе.— "О") выполнила серию из 80 снимков о жизни советской рабочей семьи. Бригада состояла из фоторепортеров А. Шайхета, М. Альперта и С. Тулеса (присоединившегося в конце) и редактора-руководителя Межеричера».
«Бригада намеренно не остановила внимания ни на одном из предприятий — гигантов пятилетки,— пояснял "Огонек".— Был взят средней величины старый завод — "Красный пролетарий", на нем — рабочий, ничем не выделяющийся из общей пролетарской среды. Это был Н.Ф. Филиппов. Таким образом, особая сила фоторассказа о семье Филипповых в том и заключалась, что это был рассказ не о чем-нибудь исключительном. Наоборот, рассказ об огромном числе рабочих СССР и тем самым волнующая и наглядная повесть о завоеваниях Октября». Впрочем, в пользу Филиппова была и только полученная им квартира в новом квартале Москвы — ее было не стыдно продемонстрировать западному пролетарию.
Выставку показали в Вене, затем в Берлине и Праге. «Рассказ о Филипповых нужно было продвинуть в массы,— замечал "Огонек".— Это сделал Межрабпом (немецкая организация, близкая к Коммунистической партии Германии, среди прочего оказывала помощь голодающим районам СССР в 1920-е.— "О"). Он посвятил семье специальный номер A-I-Z».
В нем были опубликованы 52 снимка — жизнь семьи с раннего утра и до конца дня. Хотя кадры были сделаны в разные дни, располагались они так, будто все события укладываются в одни сутки. Это создавало впечатление насыщенной событиями жизни советской рабочей семьи.
«Ни организаторы, ни авторы фоторассказа, ни редакция газеты не ожидали такого впечатления, которое номер произвел в странах Европы: он имел три издания и разошелся почти миллионным тиражом»,— подчеркивал «Огонек».
Усредненные на экспорт
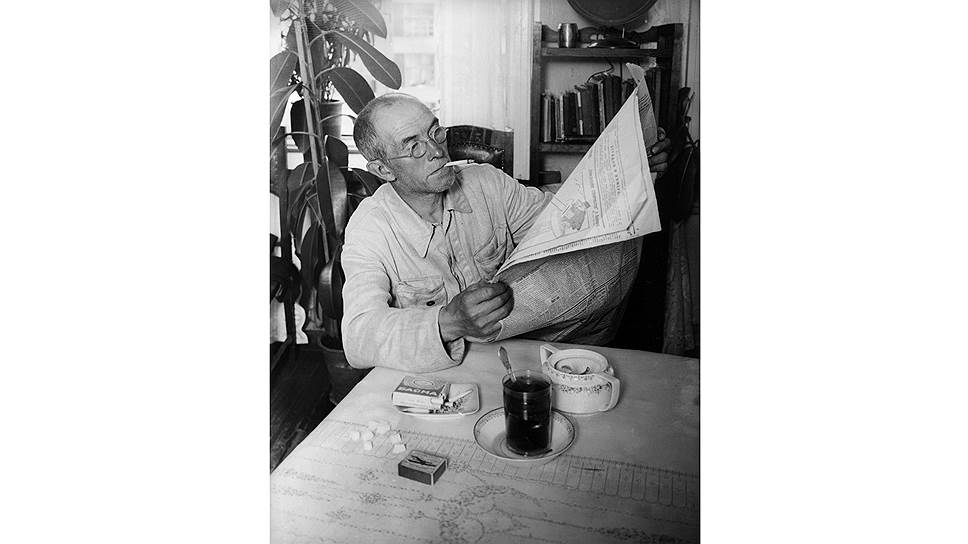
Для советской публики семья Филипповых предстала с отеческим профилем
Фото: © М.Жотикова-Шайхет
«Николай Федотович Филиппов — металлист. Ударник. Сорок один год производственного стажа не согнули его плеч, и глаза смотрят юношески ясно поверх очков в железной оправе,— описывал "Огонек" главного героя съемки.— У него нет прогулов, почти не бывает брака, как и должно быть у рабочего-большевика с десятилетним партстажем. По квалификации он сверловщик, зарабатывает 140–150 рублей в месяц. Кроме того, получает ежемесячную пенсию — 52 рубля».
Супруга и дети были, разумеется, под стать отцу семейства. «Огонек» рассказывал в деталях: «Дочь Соня — продавщица в кооперативе. Дочь Варя — чертежница на том же заводе, где отец. Сын Константин — фрезеровщик в одном цеху с отцом. Сын Коля — фабзаяц (учащийся фабричной школы.— "О") на том же заводе. Не работает только Витя — ему восемь лет, он в этом году начал ходить в школу, да мать Анна Ивановна, бывшая работница Гознака. Она оставила фабрику с полгода назад, потому что надо же кому-нибудь присмотреть за домом!»
Само собой, помимо основной работы у Филипповых была и общественная нагрузка: «Соня — экскурсовод своего коллектива. Коля — активный деятель пионерской организации на заводе. Варя — добровольный инструктор спорта в Парке культуры и отдыха». А еще «все они чему-нибудь учатся». «Николай Федотович — в политкружке, Анна Ивановна — в общеобразовательном, Варя готовится в вуз, Коля — в учебном комбинате завода, Витя — в школе»,— рассказывал «Огонек» и переходил, пожалуй, к самому интересному для заграничной публики: как устроен быт советской рабочей семьи.
«Семья Филипповых живет в новом доме-поселке в Шаболовском переулке. Дом-великан — шестнадцать пятиэтажных корпусов, рядом — клуб, библиотека, детский сад,— описывал "Огонек".— У семьи Филипповых — две чистенькие комнаты и кухня. Ванна, газ, радио. Готовить приходится мало, так как почти все обедают на предприятии. Для стирки — домовая прачечная. Четыре постирушки в месяц стоят восемь-десять копеек…»
Эффект реалити
После выхода номера с фотоочерком в Германии на Филипповых, говоря современным языком, обрушилась международная слава. «Николая Федотовича начали ежедневно заваливать десятки писем из-за границы — Германии, Австрии, Голландии, в которых выражения классовой солидарности и восхищения сменялись просьбами подтвердить правдивость материала A-I-Z,— рассказывал "Огонек".— Пишут металлисты, железнодорожники, монтеры, врачи, учителя, жены рабочих и служащих, старики и молодые, коммунисты, беспартийные и социал-демократы».
О критике журнал не умалчивал, наоборот, использовал ее для развенчания идеологических противников. «"Если опубликованное — правда…" За это зерно сомнения ухватились социал-фашисты,— замечал "Огонек".— Они опасались особо широко выступать в своей печати по поводу семьи Филипповых, чтобы не привлечь к ней еще большего внимания рабочих масс. Однако они развили вокруг нее значительную агитацию. Одна газетка объявила "фотосерию о Филипповых" "мошенническим маневром" A-I-Z, центральное издание социал-демократической партии "Рейхсбаннер цайтунг" объявило, что если, мол, там и содержится доля правды, то все равно Филипповых в СССР — жалкие единицы».
Письмами дело не ограничилось. Немецкие пролетарии направляли к Филипповым целые делегации. «19 немецких рабочих, все социал-демократы, провели два часа на заводе "Красный пролетарий" и в доме Филипповых,— рассказывал "Огонек".— В итоге они заявили: "Опубликованное в A-I-Z — чистая правда, и действительность не только не приукрашена, но даже превосходит ожидания"».
Резюмируя впечатления, которые произвел на заграничную публику фотоочерк о Филипповых, «Огонек» отмечал: «Этот правдивый фоторассказ явился крупнейшим вкладом в дело укрепления международной пролетарской солидарности и борьбы с буржуазной и социал-фашистcкой клеветой на СССР.
Недаром сверловщик из Аугсбурга пишет Филиппову: "По этим снимкам я так близко почувствовал вашу жизнь, как будто сам находился в вашей среде"».
Филипповы из Берлина
На волне интереса газета A-I-Z спустя время выпустила номер с аналогичным фотоочерком — о берлинской рабочей семье. Его перепечатал «Огонек».
Общий пафос сформулирован в конце огоньковского материала: «Если семья Филипповых — средняя рабочая семья Москвы, то семья Фурнесов — исключительная по "благополучию" пролетарская семья Берлина. Она пока еще, благодаря напряженному труду пяти человек, сводит концы с концами, она пока еще спокойна за сегодняшний день. В завтрашнем дне нет уверенности. Кризис душит капитализм, капитализм душит рабочий класс».
«Фотодокументы A-I-Z иллюстрируют меню семьи: утром мать может предложить мужу и детям маленькие бутерброды с маргарином и чашку искусственного кофе,— писал "Огонек".— Обед — водянистый суп, немного овощей, мясо — редкое праздничное блюдо». Не лучше, по описанию, обстояло дело и с жильем: большая квартира, но населяли ее четыре семьи, кухня махонькая, подъезд темный, в плесени.
Но главное, в чем «проигрывала» немецкая действительность советской,— условия труда и массовая безработица. «Отец Фурнес — рабочий-строитель, несмотря на его шестьдесят один год, ему каким-то чудом удалось попасть на стройку, но здание скоро будет готово и Фурнес потеряет место,— рассказывал "Огонек".— 18-летний сын Вилли развозит на тележке посуду для керосина. Дочь Мария — портниха в магазине готового платья. Гансу 23 года. Он развозчик газет на велосипедной тележке. Младший — Курт — слесарь-подмастерье. Хуже всего Вальтеру: ему знакомы стояние в долгих очередях на бирже труда, беготня за пособиями. Все заработки семьи Фурнес складываются в общий котел. Самое большое — 120 рублей в месяц на наши деньги».
По другую сторону камеры

Закрытый кооператив с толпой покупателей назывался временным неудобством
Фото: © М.Жотикова-Шайхет
Фотоочерк о семье Фурнесов был лишь повторением серии советской фотобригады, по сути сформировавшей каноны пропагандистcкой фотографии. Кем были родоначальники жанра?
Руководил бригадой 32-летний Леонид Межеричер, начальник иностранного отдела треста Союзфото. Он написал сценарий съемки и наметил обязательные эпизоды, а затем снабдил кадры «правильными» подписями. Например, к снимку, где Филипповы сидят за одним столом: «Семь утра, час, когда вся семья в сборе. Через полчаса каждый направится по своим делам. В Советском Союзе нет людей без дела». Или кадру, где жена Филиппова в гуще покупателей: «Прибрав квартиру, Анна Ивановна отправляется в заводской закрытый распределитель. Кооператив неплохой, но только тесноват, народу много. Однако с тех пор, как он открылся, семья забыла о частном рынке».
Межеричер был родом из Магаданской области, сын директора типографии. Участвовал в революции, руководил Главным управлением военно-учебных заведений. После демобилизации в 1922-м печатал статьи, фельетоны, стихи, рисовал карикатуры для столичных изданий. Заведовал журналом «Красная Нива». Входил в редколлегию «Крокодила». Был организатором Ассоциации советских фоторепортеров. Автор статей и учебных брошюр по теории фотографии. По воспоминаниям современников, был очень эрудирован, владел немецким, английским и французским языками.
Макс Альперт и Аркадий Шайхет были ровесниками Межеричера. Альперт — сын сапожника (по другим данным, плотника), из Одессы. Служил в Красной армии. После Гражданской войны устроился фотокором в «Рабочую газету» в Москве, сотрудничал с журналом «СССР на стройке», для которого подготовил полсотни фотоочерков, в том числе о Магнитке. Шайхет родился в Николаеве в семье торговца пивом. Служил в Красной армии (в духовом оркестре). Переехав в Москву, устроился ретушером в фотоателье. Был фотокором «Рабочей газеты» (где, вероятно, познакомился с Альпертом), «Московского пролетария», «Красной Нивы» (где мог сдружиться с Межеричером). Меньше всего сведений о Соломоне Тулесе, который, как известно, был задействован в съемке семьи Филипповых, но совсем немного. Тулес служил в фотообъединении при ТАСС. Все трое — постоянные авторы «Огонька».
Вместе эта четверка молодых, но уже вполне опытных, внесла свою веху в историю фотографии.
Съемка по-стахановски
«В основу нашей серии положен принцип — снимать только действительность,— рассказывали Шайхет и Альперт в статье "Как мы фотографировали Филипповых", написанной ими для журнала "Пролетарское фото".— Например: известно, что рабочие в Москве имеют возможность отдавать свое белье в стирку. Однако мы засняли жену Филиппова за стиркой у себя в домашней прачечной, так как она сама стирает белье».
В фотоочерке отражены и, казалось бы, неприглядные детали повседневной жизни советского рабочего. Продукты по талонам в заводском кооперативе, костюм старшему сыну по ордеру на готовое платье… Однако эти трудности через подписи к снимкам преподнесены как незначительные и временные.
Среди советских читателей чуть ли не главная и обсуждаемая претензия к правдивости съемки была к кадру, на котором Филиппов едет в трамвае на работу.
«Нам задают вопрос, почему Филиппов едет в трамвае, в котором пассажиры не сидят друг на друге,— вопрос, как будто, справедливый,— объясняли авторы фотоочерка.— Московские трамваи, как известно, не страдают отсутствием пассажиров. Засняли мы Филиппова в относительно незаполненном трамвае потому, что он живет на окраине, где не совсем бывают трамваи полны…»

Трамвай, везущий рабочих на завод без толкотни, вызвал сомнения в правдивости съемки
Фото: © М.Жотикова-Шайхет
Подобные оговорки фотографы приводят и к другим спорным в глазах советской публики снимкам. Но главное, что они отмечают, это «жесткий срок, данный для выполнения сложной и ответственной темы,— он лишил возможности углубиться в серию, как хотелось бы».
Так или иначе, фотобригада признавала, что фотоочерк отвечал поставленной задаче, прежде всего благодаря эффекту серийности: съемка воспроизводила день из жизни рабочей семьи — от утреннего сбора на работу до вечернего досуга.
«Серийный снимок должен получить широкое распространение как постоянный метод агитации и пропаганды»,— заключали они. Как показывает дальнейшая история, так и получилось: фотография вошла в арсенал пропагандистов в СССР и за его пределами.
***
Несмотря на громкую славу, семья Филипповых затерялась в истории — в открытых архивах сведений о них не обнаружилось. Альперт и Шайхет стали классиками советской фотошколы и умерли в почтенном возрасте. Трагически сложилась судьба руководителя фотобригады. В 1937-м Леонид Межеричер был осужден по 58-й статье и сослан в колымские лагеря, где зимой 38-го был осужден повторно. Четыре дня спустя после вынесения приговора расстрелян. В протоколе среди обвинений указано: «За содействие распространению за границей снимков антисоветского характера».
 Испытание силы Как откликнулся наш журнал на Первый съезд народных депутатов
Испытание силы Как откликнулся наш журнал на Первый съезд народных депутатов

Фото: Архив журнала "Огонёк"
Тридцать лет назад, 9 июня 1989 года, завершил свою работу Первый съезд народных депутатов. Первые свободные выборы депутатов... Первый прямой политический эфир… Первый даже не глоток свободного слова, а его взрыв. Первое явное политическое противостояние и новые герои новой России. Среди депутатов съезда был и главный редактор «Огонька» Виталий Коротич. Вот что он писал о тех днях («Огонек» № 23 за 1989 год).
Мир увидел нас, а мы сами себя увидели со стороны. Заждавшихся народовластия, нетерпеливых, не умеющих и не знающих очень многого, но устремленных к исполнению воли избравшего нас народа. Мы пришли в Кремль депутатами от уставшей и, может быть, в последний раз поверившей в свои силы страны. Никогда еще со времен революционных штурмов здесь, в сердце власти, не было стольких людей, уполномоченных народом к тому, чтобы изменить формы правления, и одновременно постигающих правила перемен.
Это очень обнадеживающий Съезд. Дело в том, что стали уже общим местом, набили оскомину разговоры об узости круга тех, кто впрямую обеспечивает происходящие перемены. Сегодня можно сказать, что круг не узок — круг был сужен искусственно. Сколько завтрашних директоров и редакторов, министров и судей пришло в зал заседаний съезда! Стратегически, жизненно важно для страны услышать их и заметить. Новое поколение реформаторов готово к самой ответственной деятельности: ни в коем случае нельзя пропустить их, не дать реализоваться. Как хорошо, до чего важно, что они пришли! Как они убедительно доказывают, что истекло время перетасовки старых обойм!
В течение десятилетий во времена советских парламентских сессий многие заседания высшего органа власти превращались в потоки патетических клятв, пылких призывов, депутатских объятий с заверениями в несокрушимости и победоносности избранных нами путей. Мы стали централизованы для возможных и невозможных пределов. Несокрушимое планирование, доведенный до абсурда экономический централизм были хозяйственной репликой нашей до предела зажатой и централизованной политической жизни. Идеология превратилась в один из символов порядка.
Оказалось, мы сохранили способность жить иначе, показать, насколько велика и неистребима воля к управлению собственными судьбами и страной. Благодаря Съезду мы увидели целую группу прежде массово незнакомых нам людей, готовых и умеющих мыслить государственно, умеющих излагать и отстаивать свои мысли. Нарастающая политическая активность народа выдвинула и охранила этих людей, привела их в Кремль, несмотря на нескрытое во многих случаях противодействие с различных уровней. Да и на самом Съезде при избрании первого состава Верховного совета ощутим был страх части депутатов перед независимыми, образованными людьми в этом же Совете, делались активные попытки остановить их.
Слова эти пишутся еще до закрытия Съезда народных депутатов, но ясно, что мы уже никогда не будем такими, какими были. Вырабатывается, отрабатывается новая система жизни, куда более справедливая и бесстрашная, куда более понятная нам и остальному человечеству.
Этот Съезд — первый! Первый парламент перестройки, первое собрание делегатов советского народа, откровенно стремящихся обновить жизнь. Почти девять из десяти избранных — новички в парламенте: обновляемся… Почти девять из десяти — члены партии, но во многих случаях уже не те, на кого, как на пьедестал, может опереться замшелая бюрократическая глыба: изменяемся… Мы учимся. Учимся всему сразу, осваиваем трудную премудрость народовластия.
Съезд показал, насколько не гарантирована еще законом гласность в стране. Когда М.С. Горбачев сказал, что есть желающие пресечь телетрансляцию Съезда, я очень ожидал, что он назовет фамилии этих желающих. Пора.
Чтобы поверить в собственную силу, надо получить возможность ею пользоваться.
Запомните эти дни…
Урок политического образования народа / Отклики
Письма и телеграммы о Съезде в «Огоньке» (№ 23, 24 за 1989 год)
Настоящая демократия
Наконец-то в Кремлевский дворец съездов пустили настоящую демократию! Депутаты откровенны, принципиальны, воинственны. Порой чересчур запальчивы и драчливы, но это, мне думается, можно отнести за счет молодости перестройки и новой политической системы. Верю в то, что Съезд сумеет найти общий язык, обсудит все наболевшее и утвердит правительство, способное дать стране, народу то, что они ждут с 1985 года.
Валентин Стыдель, председатель колхоза им. Войкова, Минская область
Аппаратная колея
Прямая трансляция телевидения предоставила возможность нам, дальневосточникам, быть участниками происходящих во Дворце съездов событий. Это, на мой взгляд, есть прекрасный урок политического образования народа. И как тут не возмутиться запиской, зачитанной М.С. Горбачевым от группы депутатов, предлагающих прекратить прямую трансляцию Съезда. Выходит, есть в зале люди, тяготеющие к форумам застойного периода, когда все катилось по колее, заранее проложенной аппаратом.
А. Любякин, Хабаровск
Осознать миссию
Хочу выразить свое удивление реакцией части зала на выступление А.Д. Сахарова. Академик Сахаров — человек редкого душевного мужества, в моей защите не нуждается. Но хотелось бы знать, у кого достало «смелости» перебивать его, интересно посмотреть этим людям в глаза. Видимо, некоторые депутаты превратно понимают равенство, считая, что могут сопоставить свой крик и выступление Сахарова.
Хочу пожелать нетерпеливой части зала кроме сознания своего ложного равенства с академиком осознать свою миссию как народных избранников.
О. Фролова, Москва
Хочется ясности
Я думаю, что голосование в Верховном совете должно быть только именным, например именные бюллетени с публикацией результатов в «Ведомостях Верховного совета». Лишь так каждый депутат может стать видимым.
А. Гуревич, Куйбышев
Много эмоций
Я разочарован большинством депутатов. Не умеют вести конструктивный диалог. Много эмоций. В результате формальные выборы в Верховный совет СССР. Оскорбление Литвы, устранение на первом этапе Ельцина, извращение сути выступлений Афанасьева и Попова — предпосылки для создания нового сталинизма.
М. Кучкаров, Кентау
Даешь референдум
Принятие закона о референдуме — неотложность, которая может предохранить детский организм демократии от рахита и других тяжких заболеваний. Закон должен гарантировать вынесение конкретного вопроса на референдум, если за это проголосует более четверти Съезда. Необходима консолидация прогрессивных сил.
В. Мацевитый, Харьков
Пусть Горбачев отчитается
Избрание председателя Верховного совета без предварительного отчета и обсуждения доклада — карикатура на перестройку. Не забывайте, чьи вы депутаты, учитесь политической грамоте.
А. Шило, Саратов
Это не болтовня!
Первые дни Съезда были несколько сумбурные. И часть депутатов тут же поспешила объявить дискуссии болтовней, базаром. Но это все уникальный опыт, советские люди к тому же впервые увидели, что раньше оставалось за политическими кулисами. Даже на Западе с его демократическими традициями парламентские дискуссии порой переходят границы элементарной порядочности.
За недовольством, по-моему, кроется другое. Часть избранников народа, которая, судя по всему, приехала в Москву лишь проголосовать за решения, принятые «наверху», торопит покончить с обсуждением процедурных вопросов. Эти депутаты солидаризировались с другой частью, которая долгие годы, также по привычке, правила от имени трудящихся все в том же узком кругу. И раздражение у этой, к сожалению, большой части депутатов вызывает не затягивание заседаний, а опасения, чтобы наиболее демократически настроенные депутаты решились сами участвовать в решении государственных дел. И что важно — не делегируя своих прав «вождям». Регламент — это единственная гарантия коллегиальности в решении государственных задач от произвола некомпетентности и безответственности за катастрофические провали в политике.
В. Лиски, заместитель начальника вокзала «Таллин»
 Спасти рядовую Старочеркасскую Как письмо Шолохова сохранило историческую станицу
Спасти рядовую Старочеркасскую Как письмо Шолохова сохранило историческую станицу

Старочеркасский музей-заповедник занимает площадь 180 га и включает в себя более 100 памятников архитектуры
Фото: А. Маслов / Фотоархив журнала «Огонёк»
Письмо Михаила Шолохова в защиту станицы Старочеркасской, впервые опубликованное в «Огоньке» в 1985 году, спасло уникальный памятник архитектуры и в течение 30 лет служило охранной грамотой для местного музея. Вспоминает непосредственный участник этих событий.
…У донских казаков в разные эпохи было несколько городков, где размещалась главная Войска,— именно так, в женском роде; существительных среднего рода донцы не употребляли, что остается загадкой для лингвистов.
Было время, когда главная Войска, то есть войсковой атаман и старшины, представлявшие собою столичную администрацию казаков, сидели в Раздорском городке на острове Поречном. В другое время столицей был городок, именовавшийся Монастырским. Самая ранняя из известных казачьих столиц носила непристойное название — посольские дьяки в Москве называли ее в официальных документах громоздким эвфемизмом Городок Стыдное Имя. Если не тревожить их тени, то лучше назвать его на латыни: Ieboc — так он именовался на карте голландского картографа Исаака Массы. Отборный мат в топонимике, как и матерный юмор, явление у казаков обычное. Была, например, донская станица по прозванию Баба [передним местом] ласкиря поймала,— казачки, разумеется, купались голыми. Чуть выше по Дону, на острове, который античные географы называли Лисьим, возник в начале XVII века Черкасск.
Ни Раздоры, ни Монастырский городок, ни славный город с неприличным именем, где атаман и старшины судили и наказывали станичников, то есть попросту «делали втык», отсюда и название, увы, не уцелели.
Из всех стихийных казачьих столиц, которые перекочевывали в военных целях с места на место по берегам и островам Дона, сохранилась только одна, предпоследняя по времени и наиболее долгоживущая — ей четыре века. Это тот самый столичный город Черкасск, до которого можно было доплыть от Ростова за 40 минут на скоростном судне с подводными крыльями. Последняя столица — мой родной город Новочеркасск — не в счет. По своей природе он родственник Петербургу. Как и старший брат, он «умышленный». Его заложил в 1804 году по именному указу царя Александра I граф Матвей Платов. Строилась эта новая столица по единому градостроительному плану: расчерчивал ее улицы и площади, облюбовав для нее гору Бирючий Кут у реки Аксай, инженер Де-Волан родом из герцогства Брабант (герой моей повести «Дело об инженерском городе»); над обликом трудились итальянцы — Бельтрами, Вальпреди, Кампьони.
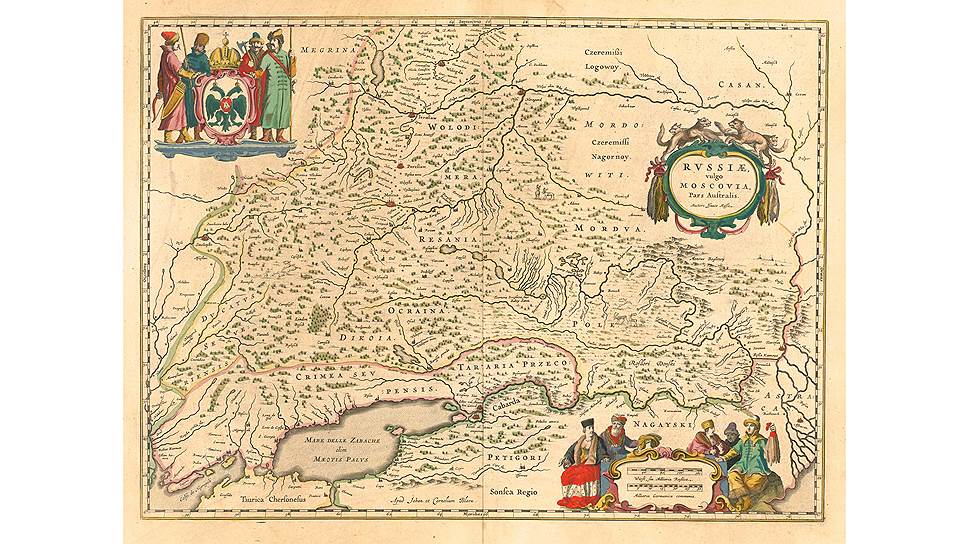
Карта Южной России Исаака Массы (1638 год), на которой отмечен Atamanskoi Gorod (Атаманский город) в устье Дона
Фото: Isaaco Massa, Amsterdam
То драматическое обстоятельство, что Черкасск после переноса столицы на холм Бирючий Кут был разжалован в рядовую станицу Старочеркасскую, в конце концов оказалось — кто мог подумать! — счастливым для казачьего форта на речном острове.
Городок ускользнул от тяжелой поступи прогресса. Его не затронула, как Новочеркасск, градостроительная горячка советских чиновников, усугубленная неизлечимой фанаберией.
На территории Старого Черкасска, благоразумно превратившегося в захолустье, не возводили экологически убийственных фабрик и заводов; не сносили бульдозерами напропалую старинные постройки, чтоб освободить место для какого-нибудь бетонного параллелепипеда; не выращивали азартно и беспорядочно хрущевок.
Столица уцелела в звании станицы. Пускай не в первозданном виде, но граф Платов, родившийся в Черкасске, и царь Александр Павлович, не жаловавший этот подозрительно неприступный городок, защищенный речными водами, пожалуй, не сразу бы догадались, что век на дворе не их, случись им воскреснуть и очутиться на улицах Старочеркасской в 1985 году.
Однако в том же 1985-м все могло трагически перемениться. Поговорив с местными жителями, а потом и с музейными сотрудниками, среди которых был историк Михаил Астапенко, я узнал, что городок, чудом увернувшийся от советских «улучшений», все же обречен — и на хрущевки, и на бульдозеры, и на параллелепипеды. Областные партийцы и чиновники для какой-то неясной цели, быть может, просто для того, чтоб наверху в Москве обратили внимание на их задорную и деятельную натуру, решили раскинуть в Старочеркасской большой птицекомбинат с сопутствующим ему бетонно-блочным поселком.
Старинные улицы, церкви, площадь с трофеями, вывезенными казаками во время Азовского осадного сидения в XVII веке, Атаманское подворье, дом Кондратия Булавина, уникальный по архитектуре Войсковой Воскресенский собор петровской эпохи, а главное — неповторимый вид и дух казачьего городка, простоявшего на острове несколько столетий,— все побоку.
— Но... как это возможно? — спрашивал я у музейных работников.— Ведь станице Старочеркасской еще в 1970 году присвоен статус музея-заповедника... Было даже на этот счет какое-то письмо Шолохова в правительство, и в Москве согласились сохранить исторический вид городка...
— Да, согласились,— отвечали музейные работники.— Да, было письмо. Но где оно теперь?.. И что в нем написано? (письмо было написано в 1970 году.— «О»). Местные чиновники при упоминании письма реагировали точно так же: «Какое такое письмо Шолохова?.. Ах, он писал!.. Ах, в правительство!.. А вы нам его покажите!.. То-то же!.. Покиньте кабинет!»
Показать и доказать было невозможно. И чиновники хорошо это знали. Шансов у просителей из Старочеркасского музея-заповедника практически не было. Шолохов лежал в могиле (писатель умер в 1984 году.— «О»). Похоронено было и письмо. Молчать советские архивы умели не хуже могил.
И действительно — не где-нибудь...
«Огонек» на тот момент был самым влиятельным СМИ на 1/6 части суши, занимаемой СССР.
…Шел 1985 год. Двухэтажный саркофаг для правительственных документов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики находился неподалеку от моей тогдашней службы — на улице Землячки, ныне Большой Татарской. Если письмо Шолохова сохранилось, думал я, то оно должно быть там. На моем служебном удостоверении было начертано золотом по бордовому: Гостелерадио СССР. Корочка производила впечатление в отечественных учреждениях: с ней пускали, давали, показывали. Я выдумал «редакционное задание» — якобы срочно нужен в эфир материал об общественной деятельности Шолохова. Боевитая неприступность кордонов, расставленных на пути к хранилищу правительственных документов, была преодолена с помощью этого служебного удостоверения и твердого уверения в том, что материал ждет сам председатель Гостелерадио Советского Союза товарищ Лапин...
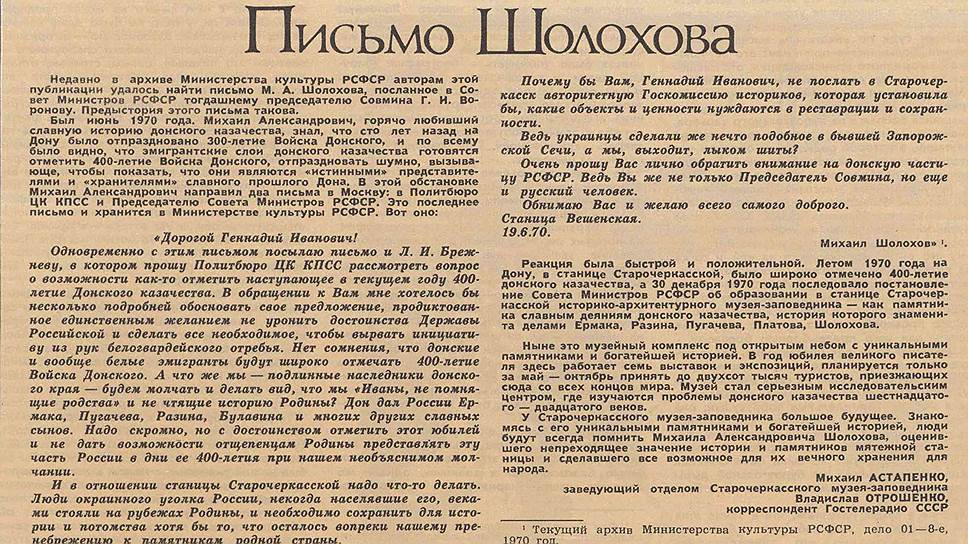
В 1970 году Михаил Шолохов написал письмо в защиту станицы Старочеркасской (опубликовано в «Огоньке» в 1985 году)
Фото: Архив журнала "Огонёк"
Письмо Шолохова от 1970 года о необходимости сохранить Старый Черкасск, адресованное политбюро ЦК КПСС и главе республиканского правительства, я действительно нашел в архиве и скопировал. Затем, как и задумывалось, в №37 «Огонька» за 1985 год (см. иллюстрацию) мы с историком Михаилом Астапенко опубликовали этот документ, в котором говорилось об исторической уникальности, культурной и архитектурной ценности Старого Черкасска.
…Огоньковский эффект был поразительный. Как только письмо вышло в «Огоньке», из голов местных партийных чиновников улетучились даже помыслы об «улучшении» столицы, разжалованной в станицы. Можно сказать, благодаря этому письму станица до сих пор сохранила свой исторический облик.
Казачья старина / Досье
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник занимает площадь 180 га (образован по инициативе М.А. Шолохова в 1970 году), включает в себя более 100 памятников архитектуры. В 2015-м заповедник лишился более 3,5 тысячи квадратных метров экспозиционных площадей согласно Федеральному закону, по которому все сооружения религиозного назначения безвозмездно передаются церкви. В итоге Ростовской епархии отошло более 10 бывших музейных объектов: Воскресенский собор, колокольня, Преображенская церковь, церкви Петра и Павла, Донской иконы Божией Матери и жилые дома. В течение двух лет — с 2015 по 2017 год — длилась тяжба между Ростовской-на-Дону епархией и Старочеркасским музеем из-за усадьбы атаманов Ефремовых. В 2017-м Верховный суд РФ распорядился оставить усадьбу в распоряжении музея. В ноябре 2018 года еще одно нежилое здание музея перешло в собственность РПЦ.
 В гостях у Репина Великий живописец как автор и друг нашего журнала
В гостях у Репина Великий живописец как автор и друг нашего журнала

Знаменитый портрет Шаляпина Репин писал в присутствии корреспондента «Огонька»
Фото: Архив журнала "Огонёк"
175-летие Ильи Репина широко отмечалось на прошлой неделе. А ведь свои первые юбилеи — например 65-летие! — художник отмечал с нашим журналом. Репин был настоящим другом «Огонька» — и его героем, и автором.
«Репин, несмотря на свой маститый возраст, является поныне самым "молодым" из наших художников: он смело берется за почти непреодолимые трудности, старается превзойти самого себя»,— воспевал 65-летнего мастера «Огонек» в 1909 году (№ 8). В юбилейной публикации рассказывалось о новых картинах Репина, представленных им на очередной, 37-й выставке передвижников.

Первоначальный вариант «Черноморской вольницы»
Фото: Архив журнала "Огонёк"
Центром выставки стала репинская «Черноморская вольница», по замечанию журнала, «грандиозное дополнение к его прославленным "Запорожцам"». Действительно, оглушительный успех «Запорожцев» заставлял Репина вновь и вновь возвращаться к этой теме. Репродукция «Черноморской вольницы» была опубликована на обложке «Огонька» (картины Репина еще не раз украсят обложки журнала) с автографом автора: «Черноморская вольница возвращается, "пошапавши" берега Анатолии», то есть пограбив берега Анатолии (ныне Турции).
По замечанию самого художника, работая над картиной, он хотел передать «экстаз раскаяния за грехи». «Необычайная сложность задачи,— писал "Огонек",— изобразить в полном разгуле две стихии: бурное море и казачью удаль. "Черноморская вольница" достойна великого дарования. Такого замысла и размаха давно уже не видела наша публика». Известно, что для нее Репину позировали Корней Чуковский и Владимир Маяковский — они изображали гребцов.
Однако запорожская тема, однажды принесшая успех художнику, потом ему не давалась. Почти все, кроме «Огонька», «Вольницу» раскритиковали, и расстроенный художник после выставки переписал картину: убрал весла, а на мачту водрузил парус, доверив своих лихих героев судьбе и стихии... В 1919 году полотно было продано в Швецию. Долгое время оно находилось в Музее истории мореходства в Стокгольме, но после очередного аукциона скрылось в частной коллекции.
Обложка «Огонька» за 1909 год дает возможность увидеть, какой была эта неизвестная в России картина еще до того, как ее переписал художник.
Дружба журнала с художником позволяла читателям «Огонька» первым увидеть его новые работы. Например, к открытию очередной, 38-й, «передвижной выставки картин» на обложке «Огонька» (№ 11 за 1910 год) были опубликованы репинские «Дуэль Онегина с Ленским», «А.Г. Рубинштейн — дирижер», а также «"Самосожжение" Гоголя», причем последняя — с пометкой «приобретено Третьяковской галереей», видимо, чтобы подчеркнуть ценность нового творения.
К 70-летию художника журнал (№ 9 за 1914 год) писал: «Молодыми красками, переливающимися, как весенняя радуга, стал писать 70-летний Репин. Полная творческих сил молодая душа великого художника бросила чудесные отблески на его новую картину (на старый мотив) "Поединок", которую мы воспроизводим».
«Огонек» публиковал не только репродукции новых картин Репина, но и вел репортажи из мастерской художника. Так, в № 9 за 1902 год представлен снимок «Репин в своей мастерской позирует для фотографа "Огонька"». А в № 8 за 1914 год на обложке журнала — кадр, на котором, как гласит подпись, «Шаляпин позирует знаменитому художнику для портрета». «Несколько дней масленичной недели гордость и слава русского вокального искусства Федор Иванович Шаляпин провел в гостях у знаменитейшего русского художника Ильи Ефимовича Репина на его даче "Пенаты",— рассказывал журнал читателям.— Репин писал портрет Шаляпина и вместе со своим гостем наслаждался прекрасной зимней природой Финляндии… Наши фотографии лучше всяких описаний рисуют зимнюю деревенскую идиллию двух знаменитых современников». Подписи к снимкам, между тем, сродни светской хронике: «Шаляпин помогает разгребать снег у дома Репина», «Шаляпин — конькобежец», «Шаляпин и гости Репина в "Пенатах"», «Шаляпин, Репин и слуга Репина китаец в парке "Пенатов"»...

«Огонек» был своим в мастерской художника
Фото: Архив журнала "Огонёк"
Специально для обложки 38-го номера «Огонька» за 1908 год Илья Репин сделал карандашный портрет поэта Константина Льдова. Льдов одно время был автором нашего журнала и, сведя знакомство с художником, написал для «Огонька» несколько репортажей о буднях Ильи Репина в «Пенатах» (усадьбе на территории Финляндии), где мастер жил со своей второй женой начиная с 1900 года.
«Мы направились в Куоккалу, куда удалился И.Е. Репин после ухода из Академии художеств,— сообщал Льдов в статье под заголовком "В студии И.Е. Репина" (№ 13 за 1908 год).— Репин принимает посетителей по средам, один раз в неделю. В этот день на станции надо заблаговременно запасаться таратайкой: знаменитый живописец живет довольно далеко от вокзала. Нам сопутствовал Г.С. Петров, ехавший позировать для своего портрета». Свое переселение в «Пенаты» художник объяснил так: «Здесь работать очень хорошо. Мне нравится моя мастерская, она очень удобна. Кроме того, я доволен, что расстался с академией. Она отнимала у меня слишком много времени. Я видел, что надо покончить с преподаванием». «В дальнейшей беседе И.Е. Репин отметил нелепость нападок на его педагогическую деятельность,— рассказывал автор репортажа.— И действительно, ни один класс не дал столько медалистов и многообещающих талантов, как мастерская И.Е. Репина. Из нее вышли такие выдающиеся художники, как Малявин, Серов, Кустодиев».
В № 37 за 1909 год публикация «Как проводили лето художники и артисты» начиналась с описания жизни прославленного живописца: «Репин только по воскресеньям позволяет себе отдых. Своеобразно и симпатично проходят эти летние воскресенья на даче "Пенаты"». А далее уже сам художник рассказывал читателям «Огонька» и прилагал к рассказу рисунки с типами своих воскресных гостей: «Наша прислуга по воскресеньям в отпуску — тут же в саду гулянья. На кооперации можно пить сколько угодно чаю (стоит 1 копейку, 1 копейка сахар и копейка кусок ситного (хлеб, испеченный из муки, просеянной сквозь сито.— "О"), если не поспесивитесь, то подкрепиться можете. Увидите танцы под гармонику, песни с балалайками и сапожное дело (урок желающим). Вообще это симпатично. Происходит от 4 до 7 часов, когда со знаменем "кооперация" и со звоном в там-там публика провожается нами из сада».

Отчет о летнем отдыхе художника и его рисунок для журнала
Фото: Архив журнала "Огонёк"
«В этих собраниях трудящихся людей для меня было новостью, как живы в их чувствах все события последней войны и освободительного движения и пр.,— делился впечатлениями с журналом именитый художник.— Все воспето фабричным людом, начиная с буров, — Цусима и все события, даже в выдающихся лицах министров и др. Также воспеты нравы купцов, молодых влюбленных и т.д., все поется с захватывающим пафосом и с большою серьезностью. Девицы, молодые мальчики, все так твердо знают и так — от всего сердца — подхватывают! И понял я здесь впервые, что это русский народ,— пишет 65-летний художник.— И этот центр, ключ горячей жизни, бьет в сердце презираемого фабричного люда, прислуги и у рабочих артелей плотников, землекопов и т.д. Но надо правду сказать, и по костюму, и по стилю стихов здесь царят антихудожественность и безвкусие, хорошо уже давно осмеянное. Но "из-под смеха люди живут"... Каким пылким огнем горят их глаза и какой непримиримой энергией дрожат их скулы!»
В продолжение репинского бытописания в № 8 «Огонька» за 1911 год за подписью К. Льдова вышла публикация под заголовком «Как обедают у проф. И.Е. Репина». «Финляндская вилла знаменитого художника И.Е. Репина "Пенаты" благодаря неутомимой изобретательности писательницы Н.Б. Северовой-Нордман (второй жены Репина.— "О"), превратилась в своеобразный центр агитации в пользу вегетарианства и раскрепощения прислуги,— рассказывалось в статье. — Не успела еще отгреметь обратившая на себя всеобщее внимание проповедь сеноедства, как та же Н.Б. Нордман ополчилась на существенную часть обычного квартирного инвентаря — на обеденный стол в его наиболее распространенной четырехугольной форме».
«Как только возникла идея раскрепощения прислуги,— объясняла сама Нордман,— в первую же очередь сам собой выдвинулся вопрос относительно обеденного стола, вокруг которого не стало бы больше унизительного для обедающих прислуживания посторонних людей. Не хотелось, однако, поступиться ни удобством, ни красотою сервировки».

Картина сына Репина — как и работы отца, она была размещена на обложке
Фото: Архив журнала "Огонёк"
«И вот, после долгих проб разных систем и их усовершенствований возник большой круглый стол на двадцать персон,— рассказывалось далее.— Первый круг стола, в пол-аршина ширины, укреплен неподвижно на солидных четырех ногах, которые удалены вглубь, под стол, чтобы они не задевали коленей обедающих. В ящики, размещенные под столешницей, ставят грязную посуду, чтобы она не оскорбляла зрения во время обеда. Неподвижная часть стола уставлена приборами, солонками, бумажными салфетками и всем необходимым для обедающего. Средина стола движется вправо, влево по желанию сидящих за столом при помощи металлических ручек у края двигающегося круга. Стоит потянуть за эти ручки — и можно достать самому все, что хочешь. Нет нужды не только в прислуге, но и в скучном "передавании" и зачастую назойливом "угощении" хозяйки».
«Возле каждого прибора лежат, кроме бумажных салфеток с надписями "Пенаты — равноправие, самопомощь", писаные "меню" на печатных листках,— упивался описанием оригинальных порядков автор репортажа.— На "меню" 9 февраля 1911 г. значатся следующие блюда: котлеты из сельдерея, соус луковый, полендвица вегетарианская, разные салаты, селянка, пирожки, фрукты, чернослив, кофе. Обозначена и стоимость "основной" части обеда — 18 коп. По свидетельству хозяйки "Пенатов", цены обедов на персону "колеблются от 11 до 18 коп."».
Автор приводит правила для обедающих из списка, «собственноручно набросанного И.Е. Репиным»: «Правило 1-е. Каждый входящий должен нарезать себе хлеба; за услугу соседу полагается штраф: речь. Правило 2-е. Никакое блюдо не должно быть передаваемо другому. Провинившийся добряк-любезник попадает в штрафные: за ним речь…». «Штрафные» речи также регламентировались. «Именные тосты в чью-либо честь отменены,— подчеркивала Н.Б. Нордман,— как отжившее старье: тосты должны быть облечены в идеи или в образы».
«Как видите, вегетарианское новаторство далеко не сопряжено с сектантскою суровостью,— заключал автор "Огонька".— Смех и остроты — лучшая приправа "сенного" стола в "Пенатах"».
По воспоминаниям Корнея Чуковского, который был частым гостем у Репина, репутацию «чудачки дурного тона» Нордман приписал ряд исследователей, в то время как, по его личным наблюдениям, в основе этих «чудачеств» лежала искренняя забота о муже. Так или иначе, но об этих «чудачествах» с участием самого Репина наш журнал писал неоднократно.
Так, в № 15 за 1910 год «Огонек» рассказывал: «В Новом театре в Санкт-Петербурге состоялся спектакль литераторов. В завершившей спектакль комедии госпожи Нордман-Северовой "Ласточка права" выступал знаменитый художник И.Е. Репин. Молоденькая девушка, увлеченная идеями равенства и конституционализма, преодолевает консерватизм своего жениха в ряде курьезных положений. И.Е. Репин играл роль дворника — одного из людей народа, которых эмансипированная девушка вызывает в свою квартиру для "митинговых" разговоров».
***
Илья Репин прожил последние годы вдали от революционных событий и строительства советского государства — в «Пенатах» на территории Финляндии, где продолжал писать — и картины, и мемуары. Но, увы, до самой смерти в 1930 году оказался разлучен с большинством гостей своих «Пенатов», среди которых был и «Огонек».
 Игрок №1 Конкурс «Огонька» на лучшего футбольного вратаря впервые выиграл Лев Яшин. Он был еще и автором журнала
Игрок №1 Конкурс «Огонька» на лучшего футбольного вратаря впервые выиграл Лев Яшин. Он был еще и автором журнала

В истории мирового футбола Яшин остается эталоном надежной игры
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»
Героями и авторами «Огонька» не раз становились выдающиеся люди своей эпохи. Но с легендой отечественного футбола 1950–1960-х годов знаменитым голкипером Львом Яшиным журнал связывали особые отношения: именно с него началась история одной из самых почетных спортивных наград в стране — учрежденного «Огоньком» приза «Вратарь года».
«Нынешним летом редакция журнала учредила приз лучшему вратарю сезона,— сообщал читателям "Огонек" на исходе 1960-го.— Приз вручен заслуженному мастеру спорта, вратарю московской команды "Динамо" и сборной команды СССР Льву Яшину». В кадре 31-летний Лев Иванович бережно держит в могучих руках хрустальный кубок (такую форму изначально имела награда). Всего же «лучшим стражем ворот» по версии «Огонька» футболист признавался трижды — еще раз в 1963-м и затем в 1966-м, когда заметка о награждении вышла в журнале с заголовком «Снова Яшин!».
Разумеется, он был не единственным сильным вратарем в советском футболе того времени. Конкуренция среди голкиперов была высока — не случайно огоньковскими лауреатами в первой половине 1960-х становились Владимир Маслаченко («Локомотив»), Сергей Котрикадзе (тбилисское «Динамо»), Виктор Банников (киевское «Динамо»), Анзор Кавазашвили («Торпедо»). Однако по поводу первого лауреата в 1960-м у журнала сомнений не было: объясняя свой выбор читателям, «Огонек» констатировал, что «Яшин успешно действовал не только в составе своей команды», многократного чемпиона страны, «но и в сборной СССР».
В самом деле, у всех было на памяти, как Лев Иванович отыграл на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, где советские футболисты взяли свое первое громкое золото. Впечатлило и то, как в 1960-м (в год своего первого приза от «Огонька») он в составе сборной взял золото чемпионата Европы во Франции, а потом, в 1964-м,— серебро на европейском чемпионате в Испании (там сборная СССР уступила в финальном матче хозяевам турнира).
А в 1963-м Яшин получил «Золотой мяч» — пожалуй, самый престижный среди футболистов мира приз, который наши коллеги из еженедельника France Football учредили в 1956-м. Это не только стало, но и остается рекордом: до сегодняшнего дня Яшин — единственный вратарь, который был удостоен этой высокой награды. Фотокор «Огонька» Анатолий Бочинин (он не раз снимал Яшина в игре) словно знал, что на сей раз снимает рекорд на века: на его кадре Лев Иванович стоит на футбольном поле и держит на поднятой вверх руке статуэтку с мячом, на обычно сосредоточенном лице — широкая улыбка.
Осенью того же года, как писал «Огонек», «Яшину были доверены ворота сборной команды мира, когда она выступала на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против сборной команды Англии». Во время так называемого мачта столетия, приуроченного к юбилею английского футбола, Лев Яшин, игравший за сборную мира, провел первый тайм в ноль, а вот заменивший его во втором тайме югослав Милутин Шошкич пропустил два гола, что позволило сборной туманного Альбиона одержать победу со счетом 2:1.
За всегда черную вратарскую форму, удивительную подвижность и «прыгучесть» Льва Яшина прозвали Черной пантерой, те же, кто хотел подчеркнуть его умение доставать длинными руками, казалось бы, неберущиеся мячи, предпочитали говорить о Черном пауке (по другой версии — спруте). На страницах старых номеров и в фотоархиве «Огонька» — множество снимков с невероятными сейвами Яшина, на которых он в падении, а будто бы и в полете, отбивает посланные в створ ворот мячи (есть, конечно, куда же без них, и снимки с пропущенными голами). К слову, именно таким, летящим в прыжке к мячу, выдающийся вратарь предстает на бронзовой статуэтке по проекту скульптора Георгия Франгуляна,— в таком виде с 2006 года вручается огоньковский приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.
От Лёвы — к Льву
С чего все началось? Подробный отчет — разумеется, в стилистике времени — на страницах журнала. Итак: «На игру с тбилисцами мастера московского "Динамо" решили впервые поставить вратарем Лёву Яшина»,— так в 1960 году «Огонек» вспоминал один из его первых матчей за клуб, который лауреат его премии сыграл летом 1950-го.
Обстоятельства были такие: основной голкипер московских динамовцев, «стяжавший себе славу Алексей Хомич, в это время был болен». «И все же он, с тугой повязкой на плече, пришел к воротам. Там стоял его "подшефный" Яшин и волновался,— пересказывал события того матча автор.— "Успокойся! Ты очень напрягаешься. Следи за игрой, Лёва! Видишь, сейчас будет низовой справа!" — говорил Хомич Яшину. И верно, удар пришелся в ворота справа, и Яшин в броске взял мяч». «До конца первой половины игры Яшин играл уверенно,— продолжал "Огонек".— Вторая половина началась при счете 3:0 в пользу москвичей. И вдруг судья назначил в их ворота одиннадцатиметровый удар… "Спокойно, Лёва, пробьют слева низом, следи за направлением",— сказал Яшину Хомич. Яшин с броском опоздал. Мяч влетел в сетку».
В дальнейшем игра складывалась для Яшина еще более неудачно. «Южане снова атакуют, и сильный мяч летит в ворота,— рассказывал журнал.— Яшин в броске ловит его, но, падая ничком, ударяется о штангу и пересекает линию ворот с мячом в руках. Судья свистит: 4:4! У Яшина прерывается дыхание. Хомич приподнимает его и вместе с доктором уводит с поля... В раздевалке Яшина укладывают на диван. Хомич снимает с себя пиджак, подкладывает под голову молодому вратарю. "Ни один вратарь не взял бы три последние мяча,— говорит он Яшину.— Ты играл молодцом!" Тот матч закончился победой московских динамовцев, пусть и с разницей буквально в один гол: 5:4».
«20-летний Яшин понравился команде: скромный, застенчивый,— замечал "Огонек" в той публикации за 1960 год.— Он как бы самой природой создан для того, чтобы быть вратарем: высокий, худой, длиннорукий. Биография его была обычной: мальчиком катался на коньках, ходил на лыжах, вместе с ребятами стал играть на дворе в футбол, неизменно стоя вратарем. Учился, потом поступил на завод, продолжая играть. Однажды тренер А. Чернышев увидел в Химках Яшина, игравшего в хоккей, и пригласил парня в "Динамо", сначала поставил в хоккейные, а затем в футбольные ворота».
Впрочем, бывали и срывы: после пары неудачных выступлений за «Динамо» летом 1950-го Яшина перевели в запасные, ему пришлось дожидаться своего часа. Основным же вратарем команды он стал лишь в 1953-м (в 1954-м — в сборной СССР). И оставался им на протяжении почти двух десятилетий.
«Яшин! Яшин!»
В конце 1950-х «Огонек» подробно освещал столичные дерби в рамках первенства СССР по футболу. В № 18 за 1957 год журнал рассказывает о матче между «Динамо» и «Спартаком», где звучит критика в адрес динамовского голкипера. «Пенальти. Яшину будто бы удалось отбить мяч,— сообщалось в заметке.— Но нет, мяч — в воротах!»
В №47 за 1959-й уже иной расклад. В материале о противостоянии «Динамо» с «Локомотивом» «Огонек» пишет: «Успех динамовцев объясняется прежде всего прочным "футбольным фундаментом" команды: это хороший, ровный, физически подготовленный ансамбль, ясные тактические цели и высокая техника... Особо хочется отметить безупречную игру Льва Яшина. Ворота динамовцев на замке!»
В другом материале за тот же год, где подводятся итоги чемпионата СССР (победу одержал клуб Яшина), обозреватель журнала подчеркивает: «Игроком №1 не только по номеру на фуфайке, но и по классу, значению в коллективе, опыту является в команде Лев Яшин».
В №49 за 1961-й 32-летний Яшин уже «неувядаемый ветеран», на которого, как замечает «Огонек», нужно равняться молодым защитникам ворот, среди них — 25-летний голкипер «Локомотива» Владимир Маслаченко и его ровесник из «Динамо» (Тбилиси) Сергей Котрикадзе.
Летом 1966-го в «Огоньке» вышла серия репортажей об участии советской сборной в чемпионате мира по футболу в Англии. По итогам СССР уступил в матче за третье место португальцам. Однако групповой этап команда Советского Союза провела очень успешно — во многом благодаря своему голкиперу Льву Яшину, которому на тот момент было 36 лет.
В статье «Укрощение строптивой» об игре против итальянцев, завершившейся 1:0 в пользу советских футболистов, автор, главный редактор «Огонька» Анатолий Софронов, рассказывал: «Когда мы появились на стадионе, радио разносило над трибунами мелодию "Стеньки Разина" — подарок нам от администрации стадиона. Вдохновленные музыкальной поддержкой, мы терпеливо смотрели и слушали беснования итальянских болельщиков. Нелегкая игра ожидала нас… Сегодня Льву Яшину предстояла более тяжелая работа, чем оставлять автографы местным и приезжим болельщикам. Итальянцы с уважением и даже опаской относятся к Яшину… Первые минуты игры проходят очень нервно. На мгновение защита открывает Яшина. Следует сильнейший удар, но, слава богу, мимо!.. В двух-трех метрах перед нашими воротами образовалась свалка. Все били по мячу. В ворота влетали один за другим игроки. Но без мяча — он исчез, его не было видно. Когда же свалку по частям разобрали, мяч был… в руках у Яшина!»
В полуфинале мирового чемпионата СССР уступил ФРГ 1:2. «Гол, забитый Валерием Паркуяном, показал, что команда могла после неудачной первой половины не только противостоять немцам, но и выиграть,— писал Софронов.— Но теперь уж ничего не поправишь. На одной защите не выедешь, хотя Лев Яшин играл отлично, спасая ворота, казалось бы, от безнадежных мячей. Недаром трибуны скандировали: "Яшин! Яшин!"».
Смел и колюч
«Противники на поле были ошеломлены игрой Яшина: он играл и руками, и ногами на всем участке штрафной площадки, выбегал навстречу форвардам, "снимал" мячи с их ног, перехватывал передачи с краев, отбивал верхние и нижние мячи»,— в публикации за 1960 год «Огонек» детально разбирал оригинальный стиль Яшина, который находился на пике карьеры и которому журнал первому вручил приз «Вратарь года».
В статье подчеркивалось: «Эта смелая игра в штрафной и привела к тому, что Лев Яшин до тонкости разработал новые приемы вратарской игры, новую тактику в обороне своих ворот. Недаром его искусство не раз спасало и ворота московского "Динамо", и сборную команду Советского Союза. А ведь сколько раз приходилось ему играть за рубежом, и какого высокого класса нападающим он противостоял!»
«Став мировой величиной, Яшин остался таким же, каким был,— писал "Огонек" в 1971-м на излете его вратарского пути.— Яшин понимал простую, но далеко не всем доступную истину, что на один отраженный в матче удар приходится сто ударов на тренировке. От этой требовательности к себе он никуда не мог уйти и пронес ее сквозь все свои славные сезоны».
«Исполненный уважения к людям футбола, готовый отстаивать их интересы, Яшин в то же время резок, когда сталкивается с игроком, не отдающим все, на что способен,— рассказывал дальше журнал.— Добрый, даже нежный к своим соратникам, в которых он верит, Яшин крут и колюч с теми, кто у него на подозрении по части отношения к игре».
Приводился такой эпизод: «Как-то Яшин осадил 19-летнего форварда, только что приглашенного в сборную, когда тот обратился к нему на ты: "Я тебе не Лёва, а Лев Иванович, и, будь добр, называй меня на вы…" Яшин, вероятно, успел разглядеть в парне зазнайство, оттого так с ним и обошелся. И не ошибся: спустя время форварда вывели из сборной».
27 мая 1971 года 41-летний Лев Яшин в последний раз защищал ворота родных динамовцев. «Прощальное выступление Яшина в составе "Динамо" против команды звезд мирового футбола запомнится всем»,— вздыхал «Огонек». На Центральном стадионе имени Ленина в Москве (нынешние «Лужники») собралось больше 100 тысяч зрителей, знаковый матч завершился ничьей — 2:2. После игры Яшина «подхватили на руки товарищи и под овации стадиона унесли с поля».
Потом были непродолжительная тренерская карьера, мучительные болезни, доведшие его до инвалидности. Яшин умер, когда ему было 60.
«За Яшиным числятся многие вратарские достижения,— писал "Огонек" накануне его прощального матча.— Он был новатором в дальних выходах из ворот, когда в некоторых эпизодах играл как защитник. Что ж, яшинские вылазки помнятся. Помнятся и его броски, послужившие поводом зарубежным журналистам прозвать его Черным спрутом. Но всего дороже в Яшине то чувство надежности, которое испытываешь, видя его на воротах… Как эталон надежности Яшин и остается в истории футбола».
 Токио. Дубль первыйСпецкор «Огонька» о том, каким был олимпийский спорт полвека назад
Токио. Дубль первыйСпецкор «Огонька» о том, каким был олимпийский спорт полвека назад

Токио-1964. Спецкор «Огонька» Михаил Ефимов ищет общий язык с Японией
Фото: из архива М.Ефимова
До XXXII Олимпийских игр в Токио — меньше года. Как они пройдут и чем удивят, начнут гадать совсем скоро, но уже ясно: без сравнений с первой токийской Олимпиадой 1964-го, открывшей большому спорту Японию и всю Азию, не обойдется. Освещавший те олимпийские баталии спецкор «Огонька» вспомнил детали, из которых видно, как за эти 55 лет изменился наш спорт и мы сами.
Осень 1964 года. Хабаровск. Здесь — основная база подготовки советских спортсменов к XVIII летним Олимпbийским играм в Токио. Отсюда улетали спецрейсы с участниками, здесь шло оформление и последние согласования. Здесь же в гостинице разместились журналисты, переводчики и другой разношерстный люд под кодовым названием «политгруппа». Их роль и функции на предстоящих Олимпийских играх были не совсем понятны, но это никого и не волновало: «Видимо, так надо».
Я, как и все, кто прилетел из Москвы и разместился в этой гостинице, получил перед отъездом полное спортивное обмундирование, включая парадный кремовый пиджак, тренировочный костюм с буквами «СССР» на груди, кеды и коричневый плащ из болоньи. Во время примерки в ателье на Мясницкой (тогда улице Кирова) я узнал, что «амуницию» нам подгоняли из костюмов, уже пошитых для наших футболистов, которые не смогли отобраться на Олимпийские игры. С чьего плеча перешивали мой, узнать не удалось.
О предстоящей работе я имел весьма слабое представление. Нас успокаивали, что без дела не останемся. К тому же помимо официальной должности переводчика у меня была еще аккредитация спецкора «Огонька», с которым я сотрудничал несколько лет.
Первые дни в Хабаровске пробежали весело и незаметно. В основном занимались проводами тех, кого вызывали в штабной номер и вручали документы на вылет. В какой-то момент я заметил, что все знакомые улетели, и остался всего один рейс. Им собирались отправлять спортсменов, которым предстояло выступать во второй половине Игр. Когда я уже смирился с возвращением в Москву и представлял, как стану объектом шуток и розыгрышей, меня вызвали в штаб и вручили загранпаспорт. Рано утром я сидел в набитом полностью ТУ-114, который взял курс на Японию.
Деревенские будни
Страна восходящего солнца встретила хмуро моросящим дождем. Долго сидели в душном салоне: оказалось, аэродромные службы не готовы принять наш суперлайнер — между площадкой подкатившего трапа и дверью самолета зияла двухметровая пропасть. Пришлось ждать, пока не доставят лестницу-времянку, по которой мы и спустились с опаской к трапу.
Далее все прошло в штатном режиме, и после разных формальностей я очутился в Олимпийской деревне, переоборудованной из бывших казарм американской оккупационной армии в центральной части Токио, которую называли «Вашингтон хайтс» (вашингтонские холмы). Эти казармы переименовали в «Сэнсю мура» (спортивную деревню), где мне предстояло прожить целый месяц. Остальные члены «политгруппы» разместились в обычном отеле и занимались в основном тем, что поднимали боевой дух советской команды (по-моему, она в этом не нуждалась), и устанавливали контакты с местными СМИ. Мы почти не встречались.
Условия проживания были спартанскими: казарма — она и есть казарма. Однотипные деревянные домики в три-четыре этажа, удобства (туалеты и душевые) — в конце коридора, в комнатах по 10 кроватей.
Бдительная вооруженная охрана строго следила за соблюдением нравственности. Девушки и юноши могли общаться в деревне только в столовой и на дискотеке.
Начальство — Юрий Машин, 32-летний председатель Спорткомитета (он же, понятно, руководитель делегации), выдвиженец комсомола, вместе с несколькими заместителями, среди которых были спортивный куратор по линии ЦК КПСС и блюститель безопасности в чине генерала КГБ, занимало комнаты на втором этаже. Там же проходили ежевечерние совещания и планерки, на которых руководители команд отчитывались о подготовке к стартам, о ходе соревнований и, главное,— о выполнении плана по медалям. Ведь заранее было строго расписано по дням, сколько медалей и очков должна завоевать каждая команда. Планировались не только свои успехи, но и возможные результаты основных противников, в первую очередь США. Всякое отклонение от плана вызывало гнев начальства. Как известно, по придуманной нами системе подсчета очков команда СССР вышла на первое место, а по общепринятой (числу завоеванных медалей) мы были вторыми после американцев.
Деревенский распорядок дня был жестким. Вставали с первыми петухами, роль которых выполняли олимпионики, делавшие утреннюю зарядку. Как я убедился, помимо спортсменов, тренеров, массажистов, врачей и иных специалистов — непосредственных участников соревнований, в состав нашей делегации входило множество лиц, неизвестно чем занятых и порой мешавших друг другу. По официальным данным, из 500 членов делегации СССР (самая большая наряду с США и Японией) спортсмены составляли примерно половину.
Речь не только о немалом отряде «бойцов невидимого фронта», которые подчинялись упомянутому генералу с Лубянки. Я, например, познакомился с симпатичными ребятами (кровати стояли рядом), в обязанности которых входил выпуск стенгазеты (!). С утра до вечера были заняты ответственные за проведение общего комсомольского собрания. Как загадочные жрецы вели себя ученые мэтры, изучавшие пути развития мирового спорта и его воздействие на организм. Были ответственные за размещение, за питание, за передвижения, за культурный досуг…
«Не забывай, с кем играешь!»
Я был приставлен к замруководителя делегации, который ведал всеми хозяйственными, финансовыми и материальными вопросами. Звали его Георгий Михайлович Рогульский. Бывший фронтовик, веселый дядька, много сделавший для советского спорта и одно время возглавлявший московский спорткомитет. Карьера его оборвалась после футбольного матча между московским «Спартаком» и тбилисским «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев поля, а на следующий день Рогульского вызвали на Лубянку. После долгого ожидания в приемной его пригласили в огромный кабинет, в дальнем углу которого блестела лысина, и солнечные блики отражались в пенсне. Он сразу понял, что это Берия. Тот продолжал писать, не обращая внимания на гостя. Потом Лаврентий Павлович поднял лицо и заорал: «Почему у тебя на стадионе творится безобразие? …твою мать! Ты у меня забудешь, где Москва и где стадион "Динамо"! Убирайся вон!» На этом аудиенция закончилась, и, хотя Георгий Михайлович не понял, что вызвало такую бурную реакцию хозяина ГУЛАГа, он был уверен, что домой больше не вернется. Но дело обошлось всего лишь увольнением. К руководству спортом его вернули через долгие годы.
Я, как мог, старался помогать ему в переговорах с японцами по самым разным вопросам от выделения дополнительного транспорта до закупки полотенец. Порой речь шла о более сложных материях, например о подготовке соглашений по научно-техническому сотрудничеству в спорте или приобретении сложного электронного оборудования, на которое распространились очередные ограничения США. Регулярно сопровождал его в поездках на разные олимпийские базы, где тренировались наши спортсмены. Запомнилась поездка к велосипедистам, жившим в городке Оцу. Меня поразило, что эту базу спроектировали так, что спортсмены не расставались со своими «механическими конями» даже в местах проживания, питания и отдыха. Всюду были проложены дорожки и установлены стоянки, а лестницы почти отсутствовали.
Как-то Георгий Михайлович вечером предупредил меня, чтобы я был готов на выезд ранним утром: «Поедем в Никко, к легкоатлетам. Учти — едем с начальством!» Нас было пятеро: Юрий Машин, уже упомянутый генерал со своим адъютантом, Рогульский и переводчик, то бишь я. Ехать предстояло пару часов поездом, и кто-то захватил домино. Стихийно сложились две пары: мы с Рогульским против двух начальников. Надо признаться, что игрок я был никудышный, в отличие от остальных, видимо, прошедших большую школу. Но отсутствие опыта компенсировалось небывалым везением, что явно раздражало наших противников. В какой-то момент я торжествующе крикнул: «Рыба!», что означало нашу очередную победу. Тут я даже не услышал, а почувствовал в ухе свистящий шепот: «Ты все-таки не забывай с кем играешь!» На мне остановился свирепый взгляд генеральского адъютанта, не суливший ничего хорошего. Слава богу, кондуктор объявил о приближении к Никко, и мы стали быстро собираться.
Тем не менее все присутствовавшие внимательно выслушали речи о роли партии и правительства в развитии советского спорта и о тех задачах, которые предстояло выполнять на Олимпиаде. После окончания собрания я заметил, что Георгий Михайлович подает мне знаки. Оказалось, что наши недавние партнеры горели желанием добиться реванша и уже уединились в номере отеля.
К счастью, наш фарт закончился, мы продули и все в хорошем настроении вернулись в Токио.
Герои Олимпиады
Забавная встреча состоялась в нашем посольстве с руководством делегации. Посол еще не вернулся из отпуска, и «на хозяйстве» был Анатолий Розанов (Толь Толич, как его за глаза называли сотрудники) — великолепный знаток Японии, добрый человек с хорошим чувством юмора. Он сидел за большим письменным столом, повидавшим на своем веку, наверное, многих советских представителей. Все расселись вокруг. Я примостился на старом кожаном диване, продавленном многими поколениями наших дипломатов.
После официальной части завязалась беседа. Кто-то из дипломатов поинтересовался, какие шансы на победу у прославленного стайера Петра Болотникова — победителя мельбурнской Олимпиады. Поднялся его тренер и поинтересовался, насколько это помещение приспособлено для откровенных разговоров. Розанов заверил, что в этих стенах иногда озвучивают сообщения, не уступающие по секретности тактическим планам забегов на стайерские дистанции. Ответ не совсем удовлетворил тренера, ибо он, на всякий случай, перешел на шепот. По его словам, Болотников, вопреки обыкновению, уступит лидерство главному сопернику — англичанину, а за 200 метров сделает фирменный рывок. Все были поражены смелостью замысла. Но, забегая вперед, скажу: увы, ничего подобного не произошло. К сожалению, наш стайер даже не попал на пьедестал.
А в самый канун Олимпиады мне посчастливилось встретиться с одним из ее героев. Не будущим, а состоявшимся и признанным. Дело в том, что МОК решил отметить золотой медалью выдающегося японского архитектора Кэндзо Тангэ, по проекту которого были созданы несколько спортивных сооружений, ставших украшением олимпийского Токио. Имя этого зодчего было связано с такими всемирно известными проектами, как мемориальный комплекс в Хиросиме, спаленной атомной бомбой, центр югославского Скопье, разрушенного землетрясением, спортивный комплекс Флашинг-Мидоус в Нью-Йорке. Если говорят, что архитектура это музыка в камне, то биография Кэндзо Тангэ — это жизнь в камне.
Архитектор принял меня в скромном кабинете на третьем этаже особнячка на одной из самых нарядных улиц Токио — Омотэ-сандо. Разговор шел об истоках японской национальной культуры, о традициях и новаторстве, о его взглядах на проблемы современного города. В заключение я не удержался и спросил, что он думает о советской архитектуре.
Тангэ взглянул на меня с улыбкой и ответил вопросом:
— А разве такая существует? Я слышал, что после короткого увлечения Ле Корбюзье и конструктивизмом ваши архитекторы отдали предпочтение помпезным сооружениям, отвечающим канонам идеологии. Впрочем, может, я и ошибаюсь.
Олимпиада позволила по-новому взглянуть и на Японию. Страна, которая всего 19 лет назад лежала в руинах и пепле, была оккупирована армией США, вырвалась в мировые лидеры! И говорили об этом не только экономические показатели, но и внешний вид Токио, где выросла телебашня в 333 метра (самая высокая на том момент в мире), появились скоростные автодороги и самая быстрая в мире железнодорожная магистраль в Осаку. И этот путь в будущее она продолжала прямо на наших глазах — первая прямая телетрансляция с Олимпиады при помощи спутника прошла именно в Токио-64. Вся страна жила ожиданием этих Игр, на которых она хотела показать себя миру.
***
На горе японцам одной из первых золотую медаль в бассейне завоевала молодая брассистка Галя Прозуменщикова. Эту простую русскую фамилию японские комментаторы при всем старании никак не могли произнести.

15-летняя Галина Прозуменщикова — первое олимпийское золото СССР в плавании — на обложке «Огонька» № 47 за 1964 год
Фото: Архив журнала "Огонёк"
В суете первых стартов я не придал значения тому, что в Москву срочно отозвали первого секретаря ЦК ВЛКСМ Сергея Павлова (это его Евтушенко назвал «румяным комсомольским вождем»). Мог ли я предполагать, что готовится внеочередной пленум ЦК КПСС и в экстренном порядке созывают всех членов партийного ареопага. А через пару дней я проснулся от того, что меня тряс дежурный. Было раннее утро.
— Скорей вставай! Там японцы ломятся и что-то кричат! Иди разбирайся.
У дверей я увидел толпу корреспондентов и телевизионщиков. Они размахивали срочными выпусками газет, на которых аршинными иероглифами было написано «Переворот в Москве!!!», «Хрущев смещен!», «Власть в Кремле захватила Тройка!».
Я, как мог, объяснил, что не располагаю никакой информацией по данному поводу и порекомендовал им обратиться в посольство. Сам же поднялся к начальству с докладом. Выслушав меня, Рогульский пошел будить Машина, который вышел в коридор и молча принял информацию. После короткой паузы сухо сказал: «Иди сам доложи Зубкову (представителю ЦК КПСС)». Я понял, что никто не хочет быть в роли гонца с плохими вестями.
Главный спортивный куратор со Старой площади появился спросонья прямо в трусах. Он не задавал никаких наводящих вопросов, кратко вымолвил: «Да-с, этим должно было кончиться. Мы так и предполагали». Мне показалось, что эти слова плохо скрывали лукавство.
В репортажи, которые я писал в «Огонек», такие детали, по понятным причинам, в то время попасть не могли. Не попали они в японскую прессу, но она, комментируя события в Москве, часто печатала отклики гостей и участников Олимпиады. Запомнились некоторые: «Странно, что Хрущев не дождался окончания Игр», «Очередная провокация американских империалистов», «Советские люди горячо одобряют решения пленума ЦК КПСС». Вскоре, впрочем, всеобщее внимание снова переключилось на спортивные арены Токио.
У автора этого текста с «Огоньком» отношения особые. Михаил Ефимов — племянник Михаила Кольцова, возродившего журнал после революционных потрясений и лихолетья Гражданской. Недавно Михаил Борисович отметил 90-летний юбилей. Пользуясь случаем, искренне его поздравляем — по-родственному.
 Большевик вне законаКак Федор Раскольников писал Сталину
Большевик вне законаКак Федор Раскольников писал Сталину

Советский полпред в Афганистане Ф. Раскольников (на слоне) вопреки козням британского МИДа в городе Джелалабаде. Обложка «Огонька», № 11 за 1923 год
Фото: Архив журнала "Огонёк"
80 лет назад в Ницце умер Федор Раскольников, автор знаменитого антисталинского памфлета, отрывки из которого впервые были напечатаны в нашей стране летом 1987 года («Огонек», № 26). Цитаты из письма осторожно «упаковали» в исторический очерк о «пламенном ленинце» и «герое революции» — время страшной правды о революции еще не пришло. И все равно, даже в такой вегетарианской подаче, публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. О том, как писалось письмо Сталину, в новой публикации «Огонька».
В начале 1938 года 46-летний старый большевик, участник Октябрьской революции, бывший командующий Балтийским флотом, дипломат, с 1934-го полпред (полномочный представитель, так тогда называли послов) СССР в Болгарии Федор Раскольников оказался перед мучительным выбором.
В 1937-м десятки его коллег-дипломатов, в том числе такие же, как он, герои Октября, были отозваны в СССР и исчезли. Мрачные предположения об их судьбе (арест и расстрел) подтверждала советская печать, иногда там появлялись сообщения о приведении приговоров в исполнение. Для заманивания в СССР использовались обманные приемы. Так, весной 1937-го уехал в Москву Лев Карахан — старинный знакомый Раскольникова еще по большевистскому подполью. Он был полпредом в соседней с Болгарией Турции. Карахану намекали, что его ждет назначение в США. Через полгода стало известно, что он расстрелян как враг народа. Осенью 1937-го в советских газетах было опубликовано постановление о назначении народным комиссаром юстиции Владимира Антонова-Овсеенко — дипломата, работавшего в охваченной огнем гражданской войны Испании. Когда он вернулся в СССР, его немедленно арестовали. Раскольникову было ясно, что Сталин целенаправленно уничтожает поколение ветеранов революции. Эту мысль подтверждал полученный Раскольниковым список книг, подлежащих изъятию и уничтожению. В списке он увидел свои воспоминания «Кронштадт и Питер в 1917 году»…
Уже несколько месяцев руководство Наркомата иностранных дел приглашало Раскольникова приехать в Москву для обсуждения нового назначения, намекали, что речь пойдет о более высоком посте. Раскольников медлил, сообщал, что в посольстве нет человека, который мог бы его заменить. В начале 1938-го такие сотрудники появились.
Полпред нашел еще одну отсрочку, он попросил разрешения совместить командировку с очередным отпуском, так его отъезд в Москву откладывался до начала апреля. Литвинов согласился при условии — отпуск провести в СССР. К этому времени невозвращенцами уже стали два молодых советских дипломата (Александр Бармин и Федор Бутенко).
Уезжал Раскольников из Софии с тяжелым чувством. Момент истины наступил, когда в купе принесли советские газеты. На 4-й странице «Известий» он прочел: «Президиум Верховного Совета СССР освободил Раскольникова Ф.Ф. от обязанностей полномочного представителя СССР в Болгарии». Необычно и зловеще выглядел сам факт объявления о снятии посла до его возвращения на родину. Кроме того, перед фамилией отсутствовала строчная буква «т.» — товарищ, это означало, что в Кремле его товарищем больше не считали…
Решение он принял немедленно. Пассажир с женой и ребенком на ближайшей крупной станции выходит из вагона и пересаживается на поезд в Брюссель. Дипломатический паспорт был действителен до ноября 1938-го, это позволяло передвигаться по Европе. Бывший дипломат решает писать воспоминания, переводить свои пьесы на французский (одна из них о Великой французской революции) и жить, не занимаясь политикой. Летом семья перебирается во Францию, сперва в Версаль, затем в Париж.
В конце 1938-го истекал срок действия его паспорта, и Раскольников обратился в советское посольство в Париже, которым руководил его хороший знакомый Яков Суриц. Именно его сменил Раскольников на посту полпреда в Афганистане, это было первое назначение бывшего военного моряка на дипломатическом поприще. Приглашения явиться в посольство Раскольников не принял, он пришел на квартиру Сурица, полагая, что это более безопасно. Не предложив Раскольникову сесть, Суриц заявил, что о продлении паспорта не может быть и речи, что он должен немедленно вернуться в Москву, где ему «ничего не угрожает». Раскольников ответил, что увольнение с поста посла было сделано заочно и в оскорбительной форме, поэтому его пребывание за рубежом является вынужденным. Суриц предложил написать об этом письмо Сталину.
Раскольников последовал совету. Он обращается к вождю «Дорогой Иосиф Виссарионович» и уверяет в том, что «не за страх, а за совесть поддерживает» его партийную линию. Односторонняя переписка со Сталиным начинается 18 октября 1938-го.
В воспоминаниях Ильи Эренбурга, написанных через четверть века, говорится: «Ф.Ф. Раскольников (он был тогда полпредом в Болгарии) пришел ко мне и спрашивал, как ему быть. Я с ним встречался в Москве в двадцатые годы, когда он редактировал "Красную новь", он был веселым и непримиримым. Написал предисловие к одной из моих книг, ругал меня за колебания, половинчатость. Я помнил, какую роль он сыграл в дни Октября. А теперь он сидел у меня на улице Котантен, рослый, крепкий и похожий на обезумевшего ребенка; рассказал, что его вызвали в Москву, он поехал с молодой женой и грудным ребенком; в дороге жена плакала, и вдруг из Праги он поехал не в Москву, а в Париж. Он повторял: "Я не за себя боюсь — за жену". А она говорит: "Без тебя не останусь..." Я знавал некоторых невозвращенцев: Беседовского, Дмитриевского, это были перебежчики, люди морально нечистоплотные. Раскольников на них не походил; чувствовалось смятение, подлинное страдание». А в донесении Сурица, направленном в Москву 6 июля 1938 года, говорится, что именно от Эренбурга, оставившего в посольстве записку, полпреду стало известно о том, что Раскольников приехал в Париж: «Он [Раскольников] заявил, что остался как был коммунистом и совгражданином»…
Ответа ни из Москвы, ни от Сурица Раскольников не получил. В феврале 1939 года в его семье случилась трагедия — от энцефалита умер маленький сын, уже начавший ходить. Раскольников почти все время проводит с женой, в мае супруги уезжают на Лазурный берег, живут на маленькой вилле, которая недорого сдавалась на весну и лето. Раскольников работает над мемуарами, фрагменты из них будут опубликованы через много лет («Сталин в театральных креслах», «На даче Молотова», «Величие и падение Демьяна Бедного»). В воспоминаниях он пишет о Сталине достаточно сдержанно, отмечая его сильную волю и превосходство над другими членами партийной верхушки. Постепенно складывается замысел книги (он собирался ее назвать «Кремль. Записки советского посланника»). Супруги начали думать о возвращении в Париж и о том, где можно будет напечатать эту книгу. Именно тогда Раскольников узнает о том, что 17 июля объявлен в Советском Союзе вне закона за то, что «дезертировал с поста, перешел в лагерь врагов народа и отказался вернуться в СССР». Верховный Суд СССР применил к нему постановление ЦИК СССР от 21 ноября 1929 года «Об объявлении вне закона должностных лиц — граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР». «Вне закона» означало расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности.
Хотя внутренне Раскольников был к этому готов, тем не менее стало ясно, что спокойной жизни, на которую он рассчитывал, во Франции не будет. Раскольников немедленно начинает писать ответ, который он озаглавил «Как меня сделали "врагом народа"». 22 июля, через пять дней после объявления его вне закона, Раскольников заканчивает свой эпистолярный ответ и посылает его во французские и русские газеты в Париже: «Это постановление лишний раз бросает свет на сталинскую юстицию, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные "враги народа" и какие основания достаточны Верховному Суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания». В завершение письма автор требует пересмотра дела и предоставления ему возможности защищаться. 26 июля письмо было опубликовано в парижской эмигрантской газете «Последние новости».
В Москве начали готовить ликвидацию Раскольникова. Сохранилось письмо Лаврентия Берии к Сталину с пересказом ответа Раскольникова, на документе — рукописная помета (с датой — 31 июля) заместителя наркома внутренних дел. Заместителю начальника внешней разведки (5-го управления ГУГБ НКВД) Павлу Судоплатову (в этот момент он готовил убийство Троцкого) предписывалось: «1) Надо точно установить, где находится Р[аскольников]. Как будто нами послан для этого специальный человек. 2) Продумать мероприятия по обезвреживанию»…
Раскольников решил продолжить переписку с тираном. Избранный им тон — наступательный, взволнованный и грозный:
«Сталин, Вы объявили меня вне закона. Этим актом Вы уравняли меня в правах, точнее в бесправии, со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона. Со своей стороны отвечаю полной взаимностью — возвращаю Вам входной билет в построенное Вами "царство социализма" и порываю с Вашим режимом».
«Огонек», № 26 за 1987 год — перестроечная публикация о Раскольникове и его письме Сталину
Фото: Архив журнала "Огонёк"
«Открытое письмо Сталину», точка в котором была поставлена 17 августа 1939 года, представляет собой, по сути дела, обвинительное заключение. В нем перечислены преступления Генерального секретаря ЦК ВКП(б) против партии, которую он возглавил, узурпировав и подменив «ленинское наследие», против Красной армии, против экономики, науки и культуры СССР. «Ленинская гвардия» истреблена, а жизненные силы страны ослаблены террором. Раскольников перечислил десятки имен выдающихся революционеров, военных, дипломатов, писателей, деятелей искусства, расстрелянных или арестованных за последние три года (часть из них подвергнута унизительной процедуре «покаяния» на показательных процессах, где им пришлось признаваться в неслыханных злодеяниях, часть бесследно исчезала). Последним в списке «исчезнувших» Раскольников называет имя арестованного в июне 1939-го великого режиссера Всеволода Мейерхольда.
Бичевал Раскольников и беспринципную внешнюю политику Сталина: вместо твердого курса на создание антигитлеровской коалиции, на «скорейшее заключение военного и политического союза с Англией и Францией Вы колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник, между двумя "осями"». (Уже четвертый месяц, с апреля 1939 года, в обстановке открыто готовившегося Гитлером нападения на Польшу продолжались англо-франко-советские переговоры о заключении антинацистского военно-политического союза). Раскольников заканчивал письмо выражением уверенности в том, что рано или поздно советский народ положит конец произволу и посадит самого Сталина на скамью подсудимых.
Действительно, он больше не успеет ничего написать. Письмо станет его политическим завещанием — Раскольникову оставалось жить всего несколько недель. Перепечатанные экземпляры он начал рассылать в газеты и товарищам революционерам. Среди адресатов — член троцкистского IV Интернационала Марк Зборовский. Только через 15 лет стало известно, что он был главным агентом НКВД, внедренным в окружение Троцкого. О содержании письма Зборовский немедленно информировал Лубянку. Из его донесения: «17 августа Раскольников отправил Суварину, Бармину и "Последним новостям" статью под заголовком "Открытое письмо Сталину". В этой статье он лично резко выступает против тов. Сталина, обвиняя его в ряде "преступлений" против партии и Советской власти. Главным образом статья направлена в защиту всех арестованных и расстрелянных за последние три года. В той же статье Раскольников высказывает свою уверенность в невиновности Троцкого, Зиновьева, Каменева и других, подчеркивая, для большего впечатления, свои политические разногласия с Троцким»…
24 августа Раскольниковы переехали в Грас. Утром 25-го жена Раскольникова Муза купила в киоске свежие газеты. Там был опубликован подписанный накануне в Москве договор о ненападении между СССР и Германией. Худшие предположения Раскольникова оправдались. Сталин перестал «качаться, как маятник, между двумя "осями"» и открыто протянул руку Гитлеру. Этого удара Раскольников уже не вынес.
Вот как описывает то, что было дальше, его биограф: «У него стала подниматься температура, он лег. Жена пошла навстречу доктору. Условились, что она встретит его перед отелем и проводит в номер. Раскольников остался ждать в номере. Устал ходить, лег на кровать, закинул руки за голову и неловко закинул: ударился левой ладонью об острый выступ металлической сетки, до крови рассек кожу на пальцах. Слизывал кровь с пальцев, а она все шла и шла. Кровь все прибывала, и тогда он взобрался на подоконник и стал протискиваться в узкую створку окна с криком: «Кровь! Остановите ее! Море крови! Это невыносимо!» Позднее жена Раскольникова отрицала тот факт, что он пытался покончить жизнь самоубийством. В письме Илье Эренбургу она так описывала последние дни жизни мужа: «25 августа 1939 года Федор Федорович заболел. Болезнь началась сильным нервным припадком, когда врач осмотрел его, он нашел большой жар и констатировал воспаление легких с распространением инфекции в мозгу. Это мозговое заболевание и было причиной смерти Федора Федоровича. Я поместила его в одну из клиник Ниццы, созвала консилиум и сделала все, что могла, чтобы его спасти. Но все усилия оказались напрасными. Болезнь протекала очень бурно. Все три недели Федор Федорович почти не приходил в себя. Сильная мозговая горячка, бред, беспамятство почти не покидали его. 12 сентября в полдень он скончался у меня на руках. <…> Похоронив Федора Федоровича в Ницце, я вернулась в Париж и там узнала, что во время болезни и смерти в газетах высказывались самые разнообразные предположения и утверждения о причинах смерти. Говорилось и о самоубийстве, и об убийстве, прямом и косвенном. Никакого расследования после смерти Федора Федоровича не было».
Биограф нашел забытое опровержение, которое Муза Раскольникова все же отправила в эту газету еще до смерти мужа.
Из газеты «Последние новости» (1 сентября 1939 года):
«Появившееся сообщение о том, что мой муж якобы сошел с ума, к счастью, не соответствует действительности. Мой муж серьезно болен воспалением легких, и бред, вызванный высокой температурой, никак не может быть назван сумасшествием. Никакого покушения на самоубийство не было».
Особо следует обратить внимание на дату публикации этого письма — 1 сентября 1939 года. Началась Вторая мировая война…
Смерть Раскольникова затерялась среди военных новостей, и сообщение о ней появилось в газете только 24 сентября: «Договор между Сталиным и Гитлером окончательно подкосил этого одного из последних оставшихся в живых представителя старой ленинской гвардии». В заметке упоминалось о полученном в редакции «Открытом письме Сталину», а причина его непубликации объяснялась так: «…мы не успели напечатать, так как из Ниццы пришло известие о болезни Раскольникова и о его покушении на самоубийство».
На самом деле газета, которую редактировал основатель Конституционно-демократической партии и эмигрант Павел Милюков, в 1930-е годы эволюционировала в сторону СССР. Милюков, будучи непреклонным противником Гитлера, считал, что в неизбежной войне между СССР и гитлеровской Германией эмиграция должна стать на сторону родины. А письмо оценил как слишком сильный удар по СССР накануне неизбежной войны. Перед «ленинской гвардией», к которой принадлежал автор письма и уничтожение которой считал главным преступлением Сталина, Милюков не испытывал пиетета. К тому же именно Раскольников был одним из главных действующих лиц 5–6 января 1918 года в Петрограде — в дни разгона большевиками Учредительного собрания. Это событие, с точки зрения Милюкова, стало решающим моментом крушения российской демократии.
И все-таки письмо Раскольникова вскоре после его смерти — 1 октября 1939 года — появилось в парижском журнале «Новая Россия», который редактировал бывший глава Временного правительства Александр Керенский. Он, конечно, помнил, что в октябре 1917 года под Пулковым именно Раскольников командовал красногвардейцами и матросами, остановившими попытку Керенского отбить Петроград у большевиков.
Начавшаяся мировая война заглушила публицистический антисталинский пафос письма — пришло время других новостей. В начале 1960-х Раскольников стал первым и, видимо, единственным из знаменитых невозвращенцев, с которого сняли все обвинения. Тогда письмо не пробилось в печать и вошло в общественную жизнь через возникавший в то время самиздат. Только в 1987 году, после публикации в «Огоньке», его прочли миллионы читателей.
 Танец с эпохойСудьба Айседоры Дункан в публикациях «Огонька»
Танец с эпохойСудьба Айседоры Дункан в публикациях «Огонька»

Из эксцентричной «босоножки» Айседора Дункан превратилась в основоположницу свободного танца, а также любимую героиню читателей «Огонька»
Фото: Hulton Archive / Getty Images
«Великая босоножка» и одна из самых любимых героинь «Огонька» Айседора Дункан впервые появилась на страницах нашего журнала в белом хитоне и с проповедью свободного танца. После революции ее во всем мире считали «большевистским агентом», а журнал писал о ее браке с Есениным и школе танца в Советской России. Как в одной судьбе соединились лав-стори, хореография и пропаганда?
В 1914 году корреспондент «Огонька» был приглашен Айседорой Дункан в ее «дворец античного танца» под Парижем. На обложке журнала (№ 18, 1914 год) Айседора Дункан, одетая в легкий белый хитон, с подвязанными лентой волосами лежит на тахте: «Отдых после танца». В том же номере рисунок Льва Бакста с натуры, сделанный специально для журнала,— «Дункан на пляже в Венеции (Лидо)»: танцовщица раскинулась на песке, темный облегающий купальник не оставляет места мужской фантазии. Тут же автограф танцовщицы на французском: «Редакции журнала "Огонек" от Айседоры Дункан».
Мало о ком «Огонек» писал с таким постоянством и любовью, как об Айседоре Дункан, разве что о Льве Толстом, не считая, конечно, партийных вождей. Танцовщица была желанной гостьей на страницах журнала и до революции, и после, став одним из символов революционной творческой свободы.
Босиком и немножко антично

Американская звезда на обложке «Огонька» за 1914 год, внутри номера большой репортаж из ее «Дворца античного танца» под Парижем
Фото: Архив журнала "Огонёк"
Дункан родилась в 1877 году в Америке в многодетной семье. Ее отец-банкир разорился, после чего родители развелись, так что Айседоре в юном возрасте пришлось начать зарабатывать тем, что умела,— она увлекалась танцами. В 18 лет она стала выступать с номерами в ночных клубах Чикаго в весьма экзотичном образе, выходя на сцену в греческом хитоне и босиком. Ее манеру позже оценила и европейская публика (в том числе российская: в конце 1904 года она дала несколько концертов в Санкт-Петербурге и Москве). И если в начале карьеры «босоножка» воспринималась как интересная диковинка, то со временем Дункан завоевала признание как новатор и основоположница свободного танца. В 1909 году Айседора Дункан открыла свою школу танца во Франции, которую пять лет спустя и посетил корреспондент «Огонька».
«В Бельвю, близ Парижа, на средства Дункан вырос роскошный дворец античной пляски, в стенах которого десятки девушек осуществляют ее мечту»,— сообщал журнал.
Жанра интервью в те времена еще не было, поэтому «Огонек» пересказывал слова Дункан о том, как родился ее творческий метод. «Однажды она, сидя на морском берегу, увидела пляшущего ребенка. Движения девочки были столь ритмичны и настолько отвечали движению морского прибоя, волнам горячего ветра и вибрации солнечных лучей, что танцовщице невольно представилось: это пляшущее дитя отражает в своем маленьком существе всю природу, как капля росы миллионами огней отражает в себе солнце»,— с восхищением писал автор «Огонька».
За лирическим вступлением шел рассказ о новаторской школе Айседоры Дункан. «Несколько лет назад Дункан пришла в голову мысль создать школу античного танца, где можно было бы воспитать целое поколение девушек в атмосфере красоты, чтобы, имея перед глазами только идеальные формы, они воплощали бы их в себе самих,— цитировал "Огонек" танцовщицу.— Для этой цели нужно было растить своих воспитанниц, как садовник выращивает цветы. Поэтому она поместила в школе различные изображения наиболее совершенных форм женского тела, начиная с детского возраста. Живопись греческих ваз, изображающую танцующих детей, танагрские и беотийские статуэтки…» «Воспитанницы, танцуя среди этих образов гармоничного движения, сами быстро усваивают их»,— разъясняла свой замысел Айседора Дункан.
Для более взрослых девушек,— продолжал «Огонек»,— «в школе установлены статуи спартанских девушек, идеально развитых в отношении гармонии формы и движений. Ежедневные упражнения в школе состоят в развитии отдельных частей тела». «Человеческие формы такой же сложный инструмент, как и музыкальный, и выработка их стоит больших забот и любовного к ним отношения»,— добавляла сама Дункан. Принципом школы, по ее словам, стало «широкое поле для индивидуального творчества каждой». «Одеты воспитанницы в туники, легкие хитоны, ноги обуты в сандалии»,— делился увиденным автор «Огонька».
Главная же новость состояла в том, что десант от г-жи Дункан уже прибыл в Россию: «Сейчас в России находятся секретарша проповедницы нового искусства г-жа Франк и брат танцовщицы г. Дункан. Они приехали, чтобы выбрать среди русских детей обоего пола воспитанниц и воспитанников для школы. Фильтрация производится строгая. От детей требуется красивое телосложение и умственное развитие. Выбранные дети поедут в школу, откуда пойдут проповедовать древнее искусство в мир… Культ эллинских богов, выраженный в танце, должен произвести окончательный переворот в установившихся понятиях гармонии и красоты. Широкие горизонты открывает Дункан в искусстве!»
Муза и коммунистка

После свадьбы Дункан с поэтом Сергеем Есениным о паре в России писали «наши за границей»
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»
После революции Айседора Дункан — героиня уже советского «Огонька»: во время гастролей в Советскую Россию в 1921 году она познакомилась с поэтом Сергеем Есениным и стала его женой (они прожили вместе около двух лет, Дункан даже приняла советское гражданство). Ей, как утверждают исследователи, Есенин посвятил одно из самых слабых своих стихотворений «Пой же, пой. На проклятой гитаре / Пальцы пляшут твои в полукруг». Фотография, на которой поэт изображен с Айседорой Дункан у Бранденбургских ворот и сделанная специально для «Огонька» (№ 1, 1923 год), была очень популярна.
И уже в следующем номере вышла заметка «Возвращение Айседоры Дункан»: «Дункан вернулась в Россию, с которой она себя считает духовно связанной: ее идея о свободном, гармоничном восприятии духа и тела в красоте может, по ее мнению, найти корни только в России…. Сейчас Айседора Дункан отправляется в турне по Кавказу и Крыму, а оттуда возвращается обратно в Москву».
Дело в том, что «за границей Дункан безнадежно окрестили коммунисткой,— писал журнал,— и отношение к ней было предвзятое. Во многих городах ей просто не разрешили спектаклей. В Париже, в Трокадеро спектакль Дункан был сорван. В Чикаго Дункан выступала в огромном театре, вмещающем 10 000 человек. Перед началом ее просили рассказать о России. Она сказала: "До русской революции я думала, а вы и поныне думаете, что мировая идея свободы творится в Соединенных Штатах. Нет, она творится в России! Наш народ, создавший самую свободную в мире республику, одним из первых должен протянуть руку помощи и дружбы освободившемуся русскому народу". В конце спектакля сверху Дункан попросили исполнить танец "Интернационал".
Дункан прямо говорила о демократичном характере своего искусства: «Я не хочу создавать танцовщиц и танцоров, из которых кучка "вундеркиндов" попадет на сцену и будет за плату тешить публику. Я хочу, чтобы все освобожденные дети России приходили в огромные, светлые залы, учились здесь красиво жить: красиво работать, ходить, глядеть, есть, разговаривать. Не приобщать к красоте, а связать их с ней органически».
Такая возможность у Дункан была. В 1921-м, во время ее гастролей нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский предложил танцовщице открыть собственную школу в Москве. Ей была обещана финансовая поддержка, но большую часть средств Айседоре Дункан пришлось добывать самой, в том числе она оплачивала питание воспитанниц и ЖКХ. В 1924 году танцовщица уехала из СССР, а школой до 1928 года руководила ее приемная дочь Ирма Дункан (школа была расформирована в 1949 году). Огоньковские фотографии доносят до нас колорит эпохи: босые, коротко стриженные и почти раздетые малыши во дворе повторяют за Ирмой Дункан ее движения (№ 36, 1924 год). А вот хоровод детей в коротких белых нарядах исполняет вальс Шуберта на 1 Мая (№ 18,1926 год). Годом позже (№ 17 за 1927 год) «Огонек» писал об «артистической поездке московской балетной школы имени Айседоры Дункан по Китаю» и опубликовал «письмо ученицы школы из Ханькоу, обращенное к оставшимся в Москве товарищам».
В 1927-м в «Огоньке» (№ 44) вышло короткое сообщение о смерти знаменитой танцовщицы: «На похоронах Асейдоры Дункан. Похороны трагически погибшей танцовщицы Айседоры Дункан (она удушилась шарфом, край которого случайно попал в ось движущегося автомобиля.— "О"), состоявшиеся в Париже, привлекли большое количество друзей и почитателей покойной. В похоронной процессии обращала на себя внимание фигура брата умершей Айседоры Дункан, облаченного в древнегреческую тунику — любимый наряд покойной».
Но и после смерти танцовщица продолжала волновать читателей. В конце года (№ 55) стало известно о ее завещании: «Последнее завещание Айседоры Дункан внесено американским адвокатом Рехт в советский суд раньше, чем оно будет рассмотрено судами Парижа и Нью-Йорка. Завещание было составлено покойной танцовщицей еще при жизни поэта Есенина, ее мужа, перед тем, как она совершила перелет в качестве первого пассажира при открытии воздушной линии Москва — Берлин. Основной частью наследства Айседоры Дункан являются ее мемуары, которые будут издаваться в Нью-Йорке и за которые предполагают выручить 50 000 долларов. Ею оставлен также дом в Париже, который, однако, заложен. Наследником ее имущества по завещанию являлся ее муж, поэт Есенин, а ввиду смерти последнего наследство должно перейти к ее брату Августину Дункан, известному американскому актеру. После смерти А. Дункан в числе оставшихся после нее документов найден ее советский паспорт. Вероятно, иностранные суды будут оспаривать ее советское гражданство на том основании, что поэт Есенин был женат на ней, не получив развода от своей прежней жены».
Так «Огонек» простился со своей легендой.
«Ритмически сплетенные гирлянды детей» / Прямая речь
Нарком просвещения Анатолий Луначарский был постоянным автором «Огонька». В 1929 году журнал публиковал его воспоминания об Айседоре Дункан
«Конечно, я очень хорошо знал Айседору и до моей встречи с ней. Кто ее не знал! Будучи "только танцовщицей", она вдруг выросла в первокласснейшую фигуру всего искусства целой эпохи. Она вливала столько тончайшей красоты в окружающее и сама, и через десятки своих учениц, что казалось, будто грубоватая эпоха позднего капитализма с ее кладбищенским декадансом, с одной стороны, и похабно-кафешантанным времяпрепровождением, с другой стороны, каким-то чудом породила нечто приближающееся к лучшим эпохам художественного творчества человечества. Но вместе с тем я знал и то, что лучшие годы Айседоры позади, я знал прекрасно, что грани соприкосновения между ее утонченным эллинством и нашей суровой республикой, питавшейся в то время селедкой и питавшей своею кровью вшей и мучительно несшей кошмары войны и разрушения, — весьма слабы и искусственны, да и уверенности у меня не было, что дальнейшие, во всяком случае первые, шаги нашей культурной работы, когда самые трудные фазы борьбы были позади, пойдут по линиям, совпадающим с эстетскими идеалами Айседоры. И вдруг письмо Красина — Айседора-де выразила свою безусловную симпатию большевизму, заявила, что надеется на крушение буржуазной культуры и обновление мира именно из Москвы. Танцевала какой-то революционный танец под "Интернационал", сделалась мишенью буржуазного негодования и… едет в Москву.
…Прежде чем я опомнился от этого письма, звонят, что Айседора приехала, сидит на вокзале на собственных чемоданах вместе со своей ученицей Ирмой и не знает, куда девать ей свою победную головушку. А у меня тоже — в распоряжении никаких квартир, никаких ресурсов. Исход нашелся — я водворил Айседору Дункан в квартиру Гельцер Екатерины Васильевны (знаменитая балерина.— "О"), которая в это время отсутствовала в Москве. На другой день после ее въезда в эту квартиру она явилась ко мне в Кремль, где я тогда жил. Самый вид ее был чрезвычайно интересен. Она очень пополнела и потеряла ту мягкую грацию, которая была ей свойственна. Она носила какой-то странный костюм, представлявший собою смесь костюма западноевропейской туристки, путешествующей богатой дамы, и какой-то туники и шарфов, развевавшихся вокруг нее, почти как при танце. У нее были необыкновенно милые, какие-то фаянсово-голубые глаза, очень наивные и очень ласковые. Сначала она вела себя официально, выражала некоторое недовольство по поводу неожиданности своего собственного приезда и вместе с тем спешила уверить, что она не ищет в России никакого комфорта, что готова есть хлеб и соль, но ей нужно, чтобы мы дали ей тысячу мальчиков и девочек из самых бедных пролетарских семейств, а она сделает из них настоящих грациозных людей.
…Она говорила о том, как ненавидит прозаическую, деловую, уродливую жизнь буржуазии. Ее идеал — Греция. Эту античную Грецию она рисовала себе какой-то непрерывно грациозной, почти непрерывно танцующей… По ее мнению, от этой утонченности подымаются над жизненной грязью. Музыка и танец являются-де огромной воспитательной силой... Теперь все ее надежды на большевистскую революцию.— "И ничего, что вы бедны,— повторяла она.— Это ничего, что вы голодны, мы все-таки будем танцевать"…
Самое удивительное то, что в эти голодные военные годы мы все-таки раздобыли здание для Айседоры, что я, Красин, отчасти товарищ Чичерин и очень много товарищ Подвойский все-таки дали ей возможность набрать довольно большое количество детей и что "мы все-таки затанцевали".
…Конечно, она слишком переоценивала значение своих пластических открытий, но что эти танцы, и именно они, сделаются каким-то прекрасным украшением социалистических празднеств, что всегда обворожительное впечатление производят гирлянды детей и молодых людей, ритмически сплетенные и пластически движущиеся по тому самому рисунку, который носился перед Дункан,— это несомненно».
 Герой номер 55Фотография в старом журнале как связь времен
Герой номер 55Фотография в старом журнале как связь времен

Фото: Архив журнала «Огонёк»
В дореволюционном «Огоньке» под рубрикой «Герои и жертвы Отечественной войны 1914–1915 г.» публиковались фотографии наших, таких уже далеких во времени соотечественников. Страницы журнала плотно покрыты маленькими фотографиями встык. Их было много — героев той войны, подвиг которых оказался забытым после пожара революции, гражданской, репрессий… Лица той самой России, которую мы потеряли. Среди них — фотография Александра Михайловича Несмерчука («Огонек» №51, 1915), старшего брата моего деда по материнской линии.
Почти перед самым уходом из жизни моя мама, Людмила Федоровна Софронова, в девичестве Несмерчук, рассказывала мне о своей семье. Историей семьи отца я и раньше интересовался, ведь продолжателем фамилии остался я один. А вот изучением истории семьи Несмерчук я занялся после того, как мама попросила побывать, при возможности, на могиле ее дяди… во Франции, в городе Лионе. (Сразу скажу, что пока у меня не было возможности посетить Лион, но я сделаю это обязательно.)
Первое, на что я натолкнулся в интернете,— фотография в «Огоньке» №51 за 20 декабря 1915 г. (2 января 1916-го). На фоторазвороте «Герои и жертвы Отечественной войны 1914–1915 г.» под номером 55 изображен Александр Михайлович Несмерчук, старший брат моего деда по материнской линии Федора Михайловича Несмерчука.
Александр Михайлович родился в Казани приблизительно в 1894–1896 году (точная дата пока неизвестна) в семье рабочего-медника Казанского пивоваренного завода, владельцем которого был известный казанский предприниматель Александров (в годы Советской власти этот завод назывался «Красный восток»).
Во время Первой мировой войны Александр Несмерчук — прапорщик, а затем поручик (возможно, и штабс-капитан), воевал на Юго-западном фронте в 125-м Курском пехотном полку в составе 32-й пехотной дивизии 11-го армейского корпуса 9-й армии.
Был трижды ранен. 25.05.2016 г. награжден орденом Святого Георгия (в списке награжденных фамилия искажена на «Нестерчукъ Александръ». Но есть его фотография 1916 года с орденом на военной форме). Все эти данные подтверждены документально.
После первого тяжелого ранения и контузии, которое произошло 28 сентября 1915 года, он прибывает на лечение в Казань. Возможно, именно после выхода из госпиталя и возвращения на фронт и была сделана фотография, опубликованная в «Огоньке».
18 мая 1916 года он снова ранен, а 25 мая 2016 года в приказе о награждении Георгиевским орденом упоминается его фамилия. Также фамилия «Нестерчукъ Александръ» значится в рукописных списках Георгиевских кавалеров. Скорее всего, это искаженная фамилия Несмерчук. И, возможно, это Георгиевский орден 4-й степени — в семейном архиве есть фотография, на которой у него на военной форме прикреплен орден, очень похожий на «Георгия 4-й степени».
Третий раз он был ранен под деревней Дземброня в Карпатах 23 октября 1916 года. И снова возвращается в свой 125-й Курский пехотный полк.
Далее его боевой путь неизвестен. После роспуска русской армии в начале 1918 года след Александра Несмерчука обнаруживается только в феврале 1919 года — в белой армии Колчака.

Герой Первой мировой войны и «Огонька» Александр Несмерчук
Фото: из личного архива Валентина Софронова
В статье российского историка и одного из ведущих наших специалистов по истории Гражданской войны в России Андрея Ганина «Белые страницы биографии маршала Советского Союза Л.А. Говорова» упоминается фамилия Несмерчук: «…Удалось установить имена командиров, под началом которых служил Говоров: 1-м дивизионом артбригады командовал Медведев, а 3-й батареей – поручик Ковалевский, которого 20 февраля 1919 г. сменил штабс-капитан Несмерчук».
А теперь я расскажу о моем деде, младшем брате Александра, Федоре Михайловиче Несмерчуке. Он тоже родился в Казани (23 апреля 1898 года) и тоже участвовал в Первой мировой войне. После окончания ускоренного курса юнкерского училища в 1916 году Федор Несмерчук был направлен на Западный фронт в район г. Могилева в Белоруссию. В феврале 1917 года незадолго до отречения царя Николая II он был командиром какого-то подразделения (взвода ли, роты — не знаю).
После октября 1917 года Федор Несмерчук перешел в Красную армию, и, так как он пролетарского происхождения, его выбирают командиром (опять-таки неизвестно какого подразделения).
И снова следы жизни теперь моего деда теряются.
По воспоминаниям моей мамы, Федор Несмерчук воюет в Красной армии в Поволжье. Под городом Самарой часть, в которой он воевал, была разбита белыми.
Об Александре Несмерчуке известно, что он оказался во Франции. Получил высшее образование, стал инженером-химиком и работал в г. Лионе. Женился на француженке, но она умерла при родах накануне Второй мировой войны. Во время фашистской оккупации Александр оказался в концлагере. Он умер вскоре после войны, в 1945 или 1946 году, от ран, полученных в Первую и Вторую мировые войны, в госпитале «Эдуард Эррио» г. Лиона.
У меня хранятся несколько фотографий Александра и Федора и одно из довоенных писем из Франции, в котором Александр пишет, что собирается вернуться в Россию.


 Так долго — живут! Как «Огонёк» открывал новые имена и изобрел викторину
Так долго — живут! Как «Огонёк» открывал новые имена и изобрел викторину