Автор особого назначения
Мария Степанова о романах Татьяны Устиновой
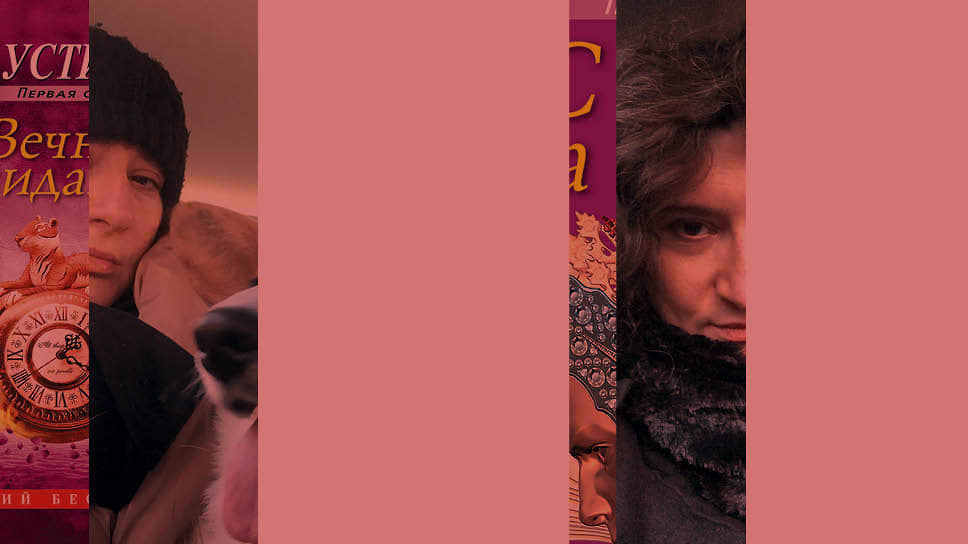
К концу двадцатого века, кажется, мир окончательно договорился сам с собой по поводу того, каким должно быть большое искусство и чего от него ждать. Ему следует быть disturbing: не оставлять камня на камне от хрупкого ощущения покоя и безопасности, напоминать и показывать черную дыру, которая всегда готова образоваться на месте, куда должен был прийти по расписанию трамвай номер 39, всеми силами выталкивать человека из так называемой зоны комфорта, куцей, недолговечной, туда, где все сдвинуто набекрень и из каждой щели дышит нехороший сквозняк. Короче, его задача — всеми силами и средствами сдергивать одеяло, которым мы едва успели укрыться с головой,— и возвращать человека к исходному леденящему знанию о себе и том, что это «я» окружает.
С другой стороны, когда одеяла уже сорваны и ты стоишь на холодном полу реальности, кажется возможным время от времени приводить в действие нехитрые согревающие механизмы: позволить себе стыдные радости, не имеющие ничего общего с абразивными поверхностями большого искусства. Оно в нынешних обстоятельствах выполняет функцию гигиеническую: обнажает душу, жесткой мочалкой сдирает с нее последние условности, отмирающие клетки надежд и упований, к которым пытаются льнуть слабые существа вроде меня. Но, по счастью, в свободные от гигиенического страдания часы можно разрешить себе передышку, выстроить пару заведомо картонных домиков со стеклами из фольги и даже полюбоваться ими без особых угрызений совести.
Просвещенное человечество придумало для этой цели множество средств и способов, от массового производства светящихся оленей и садовых гномов до платформы Netflix с ее неистощимым запасом духоподъемных историй, разложенных, как безрецептурные таблетки, по категориям: «Inspiring», «Feel-good», «Heartfelt», «Romantic», «Wedding» и тому подобное. Для тех же старинных людей, что, как я, из всех возможных опций выбирает буквы на бумаге, предназначены необозримые поля так называемой жанровой литературы. Там, на радость читателю, одеяло вдруг возвращается на место (а ты, как в детстве с фонариком, устроилась под ним со своей электронной книжкой) и ближайшие часы спасительно предсказуемы. Какой бы жанр мы ни выбрали, там все остается на своих местах и никакая сила не отменит 39-й маршрут. В категории «любовный роман» медсестра выйдет замуж за главврача, две актрисы, занятые в главных ролях, полюбят друг друга и выйдут из шкафа, еще одна героиня вернется в родной городок, чтобы заново влюбиться в когдатошнего одноклассника, а в финальной сцене все друзья, старые и новые, соберутся за столом, в саду, ординаторской, в маленьком кафе на главной улице. В детективе, даже самом продвинутом и современном, дело начнется с убийства и закончится разоблачением, а если герой вдруг отпустит убийцу с миром, никто не будет возражать. В фэнтези будет пройден очередной квест и совершен очередной подвиг, и цельность бытия опять, к добру или к худу, восстановится. В индустрии ужасов мировое зло опять с чавканьем обнажит гнилые зубы и заглотает всех, до кого дотянется. А я, читательница, вздохну, проснусь от золотого сна и начну новый рабочий день.
В деле аварийного утешения чем придется хороши все средства, все способы; качественный продукт идет не хуже, чем заведомо бросовый (и наоборот). Можно пересматривать ночами старые оперные постановки или фильмы тридцатых годов, можно — «Секс в большом городе» от первого сезона к шестому. Я, как и было сказано, выбираю буквы на бумаге, и когда не помогает ни Ф.Д. Джеймс, ни Элизабет Джордж, ни Джорджетт Хейер (а это очень сильный болеутолитель), у меня есть тайный, стыдный, сладостный книжный угол, в котором стоят древние (девяностых то есть годов), хорошо почитанные книжки Татьяны Устиновой, и они-то до сих пор действуют безотказно.
Мое пристрастие было бы одиноким и не делалось бы оттого горше, но отрадно сознавать, что в любви к Устиновой я не одинока и что даже в Weekend, где ниже highbrow планка не опускается, у меня есть тайные союзники, с которыми можно дотла обсудить и достоинства ее старых романов, и недостатки новых, и то, откуда в ее последних книгах взялась необъяснимая любовь к сотрудникам ФСБ и их трудной, но благородной работе. Тут мы обычно вздыхаем и пожимаем плечами («Ну вы же понимаете», как принято теперь говорить); были времена, когда героями ее книг были опальные олигархи с прозрачными именами, но постепенно российские спецслужбы отвоевали там козырное место и даже стали выявлять случаи шпионажа в пользу вражеских, немецких или японских сил. Иногда их становится столько, что любовь к Устиновой хочется задним числом отменить. Но она держится еще пока, а в трудные ноябрьские вечера и вовсе возгорается синим бенгальским пламенем, утешает, обещает разрешение детективной интриги, знаемой наизусть, яичницу, солнцем сияющую с клетчатого дачного стола, старый плед, который бабушка складывала невосполнимым углом, вереницу невезучих секретарш, библиотекарш, журналисток и просто девушек без адреса, которым так сокрушительно не везет, что невозможно не устроить их жизнь самым счастливым образом, обеспечив им и мужа хорошего (сначала вовсе не выглядящего мужчиной мечты, но быстро станет ясно, что только о таком мечтать и следовало — с трудной судьбой, зато с миллионным состоянием, дедовской дачей и знанием боевых искусств), и детей кровных, и детей приемных, и обязательно большую белую собаку, без которой никак.
Это ее странное умение из трех сюжетных скрепок сложить что-то, не вполне способное к собственному движению, зато меблированное самыми настоящими скрепами — лучезарными патриархатными картинками, где усталый коммерсант возвращается в холодный, брошенный вздорной женой дом, а там и бутерброды нарезаны каким-то заграничным способом, и нажарена полная сковорода картошки, и мальчик с ручками-спичками взахлеб читает про Финдуса — что оно мне, собственно, и как оно совмещается с моими собственными картинками, которые совсем другого образца? Или вот, например, труженица большого бизнеса на тоненьких лабутенах-нах скользит по петербургскому льду и падает в мерзлую лужу, каблук отвалился, подол промок, лицо и руки в грязной воде — и тут ее подхватывает ровно тот, кто надо, и влечет через дорогу в ярко освещенный магазин, где небесные продавщицы скорей-скорей наливают ей полную кружку кофе, и покупает ей счастливые синие джинсы, и теплый белоснежный свитер с косами, и жилетку, чтобы грела, и желтые ботинки на шнурках, и с самого начала ясно, что все у них будет хорошо: ну какая «Pretty Woman» может с этим сравниться?
Стыдные, счастливые, морально устаревшие, политически — так и просто некуда глаза девать от неловкости, но каким-то образом населенные цветом и светом картинки из жизни, какой она никогда не бывает: где бездомная собачка находит себе хозяев, бесприданница — жениха хорошего, незнамо кто — хитрого и расчетливого убийцу. А я, старая дура, греюсь у нарисованного огня и довольна мастерством художника до такой степени, что когда однажды оказалась зачем-то на книжном фестивале в Лондоне и мне показали издали писательницу Татьяну Устинову, я шла за ней шагах в десяти, как та собачка, преданно смотрела на ее писательский пиджак и думала, что надо бы подойти и поблагодарить за всю эту радость. Подойти я постеснялась, зато сейчас говорю свое слегка отсроченное спасибо. Мы были так счастливы вместе — и до сих пор иногда бываем. Чекисты, конечно, очень мешают нашей любви; но синие джинсы, кружка чая, солнечная яичница!

