«Я ставлю вопрос: как быть отсюда?»
Оксана Тимофеева о том, как любить родину
Что значит любить родину? Можно ли взять ее с собой? Должен ли настоящий патриот уезжать или оставаться? Ко Дню России Игорь Гулин поговорил с философом, автором книги «Родина» Оксаной Тимофеевой о патриотизме и о том, что такое родина и как ее любить.

Оксана Тимофеева
Фото: Виктор Юльев для The Village / www.the-village.ru
Оксана Тимофеева
Фото: Виктор Юльев для The Village / www.the-village.ru
«Родина» — слово, существующее в первую очередь в консервативном дискурсе. В либеральном или левом оно обычно фигурирует в кавычках, как элемент чужого языка. В своей книге вы пытаетесь исправить это положение. Поэтому вопрос: что вообще такое родина?
Я думаю, что слово «родина», как и сама вещь, которую это слово обозначает, слишком легко были сданы врагу. Я хочу освободить понятие родины от представлений в духе национализма и ура-патриотизма — от отождествления земли, на которой мы живем, и той власти, что этой территорией управляет. Родина — это не государство, не флаг, не гимн и не сакральное тело президента (как точно заметил Юрий Шевчук). Это что-то конкретное, с чем каждый из нас связан, до чего может дотянуться. Я считаю, что я настоящий патриот, люблю родину. Но само слово «патриот» мне не очень нравится потому, что оно происходит от латинского patria. Уже на уровне терминологии патриотизм превращается во что-то патриархальное, властное. Это patria нужно заменить чем-то другим. В русском языке есть только два варианта: родина и отечество. Родина — мать, женское, а отечество — это мужское. Папа и мама. Мне бы хотелось освободить родину от этой родительской пары — чтобы было какое-то свое понятие. Например, в английском есть слово homeland, в немецком — Heimat. То есть родина — это дом, домашний очаг. Родина как дом — это место не столько рождения, сколько обитания, место, к которому мы нежно привязаны и о котором говорим, что мы отсюда. Я ставлю вопрос: как быть отсюда? — и ищу ответа на него в материальности земли. Это люди, животные, растения, сила ветра, море или реки, деревья, лес, степь. Это ландшафт, который определяет нашу душевную предрасположенность — в котором самом по себе нет ничего политического. Это своя земля. Нужно различать «свой» и «мой». «Мое» — это то, что принадлежит мне, а «свое» — то, чему принадлежу я.
Но за это пространство ведь может идти какая-то борьба?
Да, и так становится понятнее, что значит защищать родину. Это значит защищать место, в котором ты живешь. Становится очевидным и различие между войной захватнической и освободительной. Захватническая война — это война, которая ведется за дом соседа, ее цель — наращивание «моего» за счет чужого. Земля утрачивает материальность, становится абстрактной: просто территории, которые присоединяют и используют. Необязательно территории другого государства — можно вести захватническую политику и на своей территории, превращая и землю, и людей в ресурсы: недра, рабочая сила. Такова логика империи: она уничтожает связь людей с землей. Тогда как война освободительная направлена на сопротивление имперскому, на борьбу с теми силами, которые это домашнее пространство пытаются превратить в руины. Это война на своей земле, за нее и вместе с ней. Что такое партизанская война? Это когда воюет вся местность. Люди действуют совместно с лесом или степью, болотами, животными, растениями, которые, таким образом, составляют своего рода единый народ. Есть еще стратегия городской герильи, когда партизанская война переносится в город. Тогда элементы городского пространства вовлекаются в политическую активность. На стороне людей выступают лед, снег, реки, переулки. Местные лучше знают город или лес, за который борются, для них это не просто точки на карте.
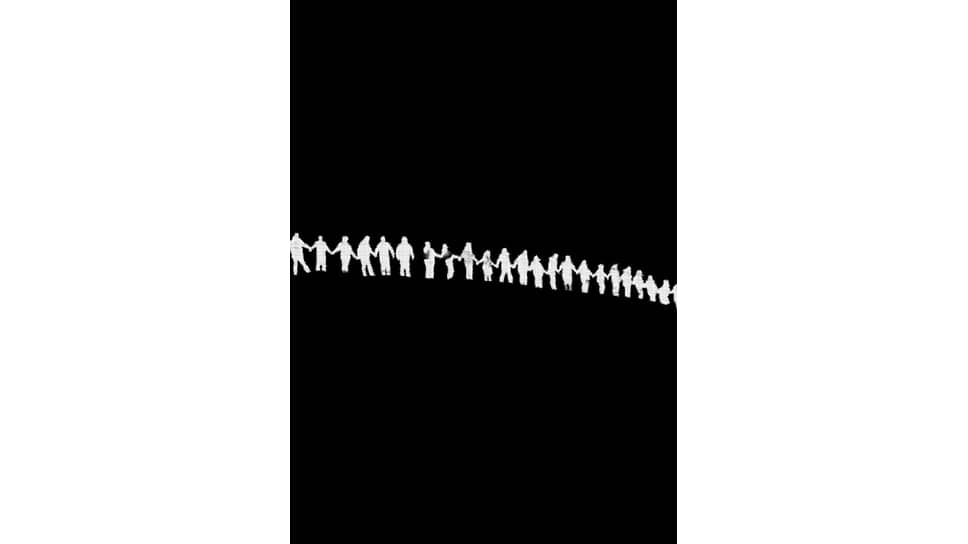
«Родина», 2021
Фото: Сигма
«Родина», 2021
Фото: Сигма
Ощущение родины как дома противостоит современному миру, в котором мы живем — с интернетом, с глобальной экономикой, путешествиями,— или как-то в него вписывается?
Я думаю, вовсе не противостоит. Напротив: такое понимание родины задает подвижность. Это родина, образ которой можно взять с собой в дорогу. Для меня это глубоко личная история. Моя книжка «Родина» — не совсем теоретическая, это попытка автобиографии. У меня нет одной родины — есть места на земле, которые стали мне родными. В последнее время Россию покинуло очень много людей, и — хотя книжка вышла два года назад — я стала получать от друзей из разных мест сообщения, что именно сейчас она показалась им созвучной. Я так ее и писала — как дорожную книжку, которую можно читать, когда родина тебя выдавливает куда-нибудь в другое место и ты пытаешься сознавать свою с ней связь. У меня есть два идеальных читателя. Это тот, кто уезжает, и тот, кто остается. Это две части моей души — растительная и животная. Кто-то будет, как дерево, стоять на своем, кто-то будет, как зверь, бежать, ускользать. Можно ли найти какой-то баланс между двумя этими чувственными порывами? Сама я не уезжаю и не остаюсь, зависла в состоянии дороги, пустив корни одновременно в разных местах. Для меня важна с этими местами связь — не только духовная, экзистенциальная, но и материальная связь, тактильная. Я живу в Петербурге, и, например, в начале лета мне важно видеть, как бела ночь.
Родина всегда вызывает ностальгию или — в более агрессивных версиях — ресентимент. Она всегда немного отсутствует. Кажется, это то, что связывает вашу и более традиционную версию родины. Как вы эту тоску осмысляете?
Здесь может помочь психоанализ. В нем есть такая вещь, как влечение к смерти. Это не обязательно значит, что нам хочется умереть и мы начинаем заниматься экстремальными видами спорта или затеваем войны. Это что-то более тонкое, потому что танатос и эрос, влечение к смерти и к жизни, всегда идут рука об руку. Танатос — это темная сторона всякой души. За каждым нашим жизненным влечением можно обнаружить влечение к смерти. И за благостной любовью к родине тоже скрывается это влечение — крик «родина-мать, роди меня обратно!». Утраченный мир материнской утробы стоит за всеми грезами о потерянном рае. Танатос влечет нас возможностью обрести полный покой, то есть избавиться от противостояния особи и среды, окончательно слиться со средой, раствориться в земле. Как писал Фрейд в знаменитом письме Эйнштейну, война — это один из способов направить влечение к смерти вместо самого себя на другого, коллективного врага. Если любовь к родине обслуживает танатос, тогда на первый план выходит деструктивная часть патриотизма: солдаты идут убивать и умирать. Но бывает и другая любовь к родине, чуждая всякого милитаризма,— в ней преобладает не танатос, а эрос.
Эротику смерти в патриотизме легко прочувствовать. А как выглядит позитивное эротическое переживание родины?
Я, в частности, обращаюсь к таким популярным в России авторам, как Делёз и Гваттари. В книжке «Что такое философия?» они пишут, что каждое животное устанавливает какое-то отношение к своей территории. Вот, например, птичка обустраивает себе что-то вроде сцены и со своей сцены поет песенку. Этой песенкой она обозначает свою территорию. У всех у нас есть такие песенки. Есть песенки буквально патриотические: «Этот город — самый лучший город на земле», «Я вернулся в свой город, знакомый до слез», «На Васильевский остров я приду умирать» и так далее. Но большинство наших песен просто про любовь. Про любовь к другому человеку, какому-то существу. Это существо, по сути дела,— тоже родина, а песня — своего рода метка. Когда я пою кому-то о любви, я обозначаю его как свою территорию: мое место рядом с тобой. Уходя по делам, я объясняю коту, что скоро вернусь, а он здесь пока что остается за главного. Это любовь животного. В том числе и человека как животного — то есть существа, которое все время уходит. Поэтому в самой структуре песен есть рефрены, повторы,— эти повторы нас возвращают. Мы держимся на ниточке, растягивающемся поводке от своей родины. Животные обычно не могут находиться на одном месте (исключение — прикрепленные животные, которые всю жизнь сидят, например, на камне). Помести любое животное в клетку — оно начинает страдать: ему нужно туда, а потом обратно. Любой эмигрант или беженец удерживает в голове эту идею возвращения. Даже если он не планирует вернуться на родину, он это делает, например, во сне. Либо пытается создать вокруг себя какие-то духовные и материальные инфраструктуры, воспроизводящие контекст, из которого он вышел. Допустим, позднесоветская эмиграция в Америке организует вокруг себя структуры, которые сохраняют дух тех времен. Ты приезжаешь — и попадаешь немножко в Советский Союз. И немного в детство.
А как быть с растительной частью души?
Любовь растения другая. Это когда ты говоришь: нет, я остаюсь здесь. Это мой город, я не хочу его отдавать. Я хочу быть там, где я есть. Тогда я врастаю в этот город, как дерево, и стою, пока меня не срубят. И это тоже своего рода эрос. Вот сейчас говорят: половина русских уехала, половина осталась, кто из них настоящие патриоты? Нет правильного ответа на этот вопрос. И то и другое настоящее. Мы, как животные и как растения, бежим, возвращаемся, мечемся, остаемся, пускаем корни, пробиваемся, как одуванчики через асфальт, трещим, как лед под ногами майора. У каждого свой способ быть отсюда, находить свой эрос, который возобладает над танатосом. Любовь к родине — не про смерть, а про жизнь.
Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram

