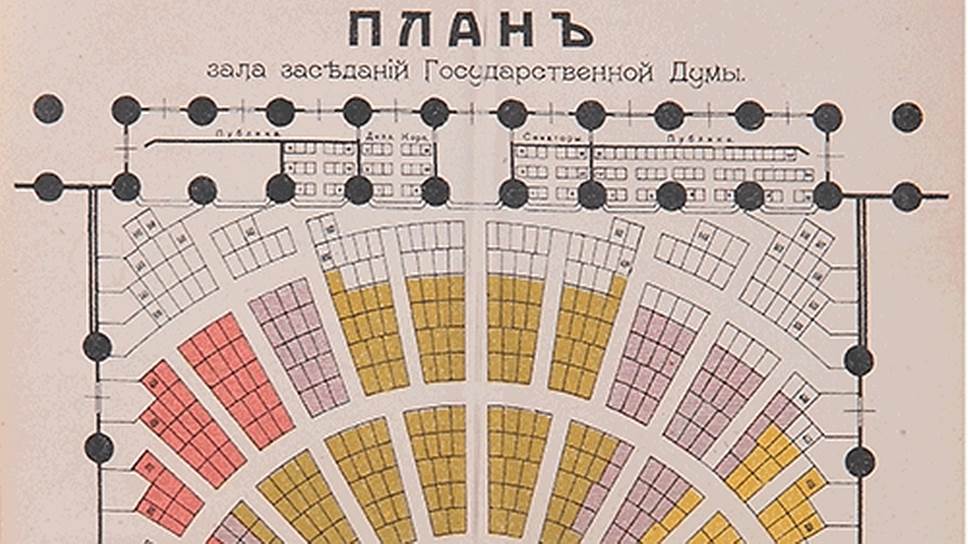110 лет назад Россия пережила свой первый парламентский период: I Государственная дума была открыта 27 апреля 1906 года и распущена через 72 дня. Непродолжительность жизни отношения к этому предприятию не изменила: первый российский парламент вызывал недоверие задолго до того, как был собран. Предубеждение так и осталось определяющим в отношении к российской Думе: в любом созыве она так или иначе будет вызывать скепсис и разочарование. В преддверии очередных выборов в Государственную думу Ульяна Волохова изучила дневники и письма 1905-1906 годов и составила хронику разочарования в первом парламентском опыте, а Дмитрий Бутрин постарался объяснить, как получаются хорошие парламенты и почему российская Дума всегда была неудачницей
Игорь Стравинский,
письмо Владимиру Римскому-Корсакову
15 июля 1905 года
Читаем мы конституции всех стран <...>. Прочитали гнилую Австрию, читаем Англию. Что за народ! — на диво всему миру!!!!!! Какая политическая зрелость, воспитанность. А все делает эта "Великая хартия вольностей" и этот изумительный "Habeas Corpus". Довольно! — завидно! досадно! обидно!!!!!! Проклятое царство хулиганов ума и мракобесов! Что б их черт побрал!
Максим Горький,
письмо Екатерине Пешковой
конец июля — начало августа 1905 года
Крайне жалки те оптимисты, сиречь идиоты, которые решаются унизить себя, вступая в борьбу за эту Думу, куда будут усилиями администрации слиты все помои, сброшены все объедки и огарки русской земли. Неужели они, эти мудрецы, не видят, что им туда, во-первых, не попасть, а во-вторых — там нечего делать?
Александр Киреев,
дневник
5 августа 1905 года
Завтра, говорят, будет манифест о созыве Думы. <...> Боюсь, что время между манифестом и выборами будет употреблено оппозицией на то, чтобы восстановить народ против Думы. Помешать избирательной агитации нельзя. Свою агитацию вести нам трудно, ибо мы не организованы...
Татьяна Найденова,
дневник
6 августа 1905 года
Говорят, что сегодня последний день монархического правления; в Москве будет временное правительство. Какие-нибудь перемены обязательно нужны и будут в скором времени, так продолжать невозможно. Всюду неспокойно.
Василий Ключевский,
дневник
6 августа 1905 года
6 августа манифест и положение о Государственной думе. Равнодушие в народе.
Александр Киреев,
дневник
8 августа 1905 года
В Петербурге "дарование" Думы не произвело никакого эффекта! В Москве — наоборот: молебны, гимны, флаги... Издали дело вообще кажется более красивым.
Александра Калмыкова,
письмо Александру Потресову
9 августа 1905 года
Вчера газеты принесли благую весть, ставшую действительностью: Россия имеет Конституцию!!! Вот теперь-то развернется катавасия. <...> Европейцы в газетах удивляются, что русские так равнодушно или с таким недовольством принимают сию "Хартию свободы". Они указывают, что во всех государствах первые конституционные формы были так же или еще более несовершенны, чем "булыгинская". Да в этом-то и штука, что мы одним боком еще в лесных топях Гостомысла бродим, а в других мчимся на всех парах с европейцами по железному пути ХХ века. Как мы из этой несуразности выйдем, не знаю.
Александр Киреев,
дневник
12 августа 1905 года
Моя детская мечта осуществилась. Народу — совет, решение — царю. Славянофильская теория принята... Совещательное Самодержавие. Но какие противоречия, наша партия недовольна, конституционалисты очень недовольны, социал-демократы — в бешенстве! Народ! Но народ обоюдоострое оружие.
Константин Сомов,
письмо Александру Бенуа
20 августа 1905 года
Наша знаменитая конституция — наглый и дерзкий обман, это ясно: в ней, кажется, нет даже крупицы зерна, из которого могло бы вырасти освобождение. Надо надеяться, что правители наши сами заблудятся в устроенных ими дебрях и сломят себе шеи.
Владимир Теляковский,
дневник
10 сентября 1905 года
Мережковский говорит, что здесь, в России, теперь делать нечего. Ничего писать нельзя, ибо ничего не пропускают мало-мальски резкого. Он не надеется, чтобы в скором времени могло хоть что-нибудь произойти. Все будет постепенно жить и разлагаться. На Думу не может быть никаких надежд, да и вообще все важное произойдет на Востоке <...>.
Александр Киреев,
дневник
16 сентября 1905 года
Stead (Уильям Томас Стэд, английский журналист, издатель Review Of Reviews.— W) объяснял Царю: The Douma must by all means have the four legs, разумея свободу совести, свободу слова, свободу meeting и свободу союзов. Конечно! И сам Stead, говоря мне это, прибавлял: конечно, с ответственностью перед законом. Вот тут-то и затруднение. У нас нет судов, а какое-то посмешище над судом.
Татьяна Найденова,
дневник
18 октября 1905 года
Наконец вышел Манифест, а также напечатали доклад Витте. Дают много, только не думаю, что это всех удовлетворит. Пожалуй, больше сразу невозможно дать. Неприкосновенность личности, свобода слова, союзов, собраний и т. д. — нужно исполнить.
18 октября 1905 года
Сегодня объявлена конституция; на улицах небывалый вид, незнакомые заговаривают, вокруг каждого говорящего собираются кучки слушателей, красные гвоздики, кашнэ, галстухи имеют вид намеренности. У Думы говорили революционеры с красным знаменем, которое потом убрали, кучка единомышленников аплодировала заранее ораторам, которые толковали, что весь манифест — обман. Когда кричали: "долой красную ленту" и "долой ораторов", я тоже кричал "долой", помимо воли и рассуждения, т. е. наиболее искренне.
Вячеслав Иванов,
письмо Валерию Брюсову
24 октября 1905 года
Принимать Государственную Думу с функциями учредительного собрания, если она основана не на общеизбирательном праве и не выражает, следовательно, всенародной воли, не следует.
Владимир Теляковский,
дневник
27 октября 1905 года
Сегодня у меня опять был граф Л.Л. Толстой. Опять справлялся о судьбе своей пьесы. Встретил он меня со словами "Поздравляю с конституцией". Мне кажется, что он думает, конституция разрешит ему ставить плохие пьесы.
Михаил Кузмин,
письмо Георгию Чичерину
1 ноября 1905 года
Я знаю, что будущее за социализмом, но я всего чуждее либеральной буржуазии и среднему либерализму, и, видя в нынешнем перевороте торжество именно этой партии, я желаю пугачевщины и погромов, реакции и революции.<...> А эта мертворожденная Дума, куда попадет только либеральная буржуазия; это — хуже всего.
Василий Ключевский,
дневник
6-10 ноября 1905 года
Земский съезд. Много речей и долгих речей. Временем не дорожат: у каждого по 48 часов суточных. Во всех речах главная pars pathetica, в иных esthetica, реже ethica, но всего чаще в заключение pars ironica. Парламентская корректность до щепетильности: заседание носит характер конституционной литургии, хотя иной оратор только что не называет своего оппонента собачьим сыном. Все хотят высказаться, и каждый для того, чтобы убедить самого себя в собственных мыслях. Так все ищут самих себя, собирают собственные растерянные мысли, и хотя все испуганы общим водоворотом, но каждый жаждет только самодовольства. Ясно одно: всем хочется усвоить конституционно-размашистые манеры, чтобы избавить себя от труда усвоять конституционно-свободные нравы.
10 ноября 1905 года
Все кислы и жаждут уже успокоения, хотя бы с Думой, чтобы жить личной жизнью.
Михаил Кузмин,
письмо Георгию Чичерину
декабрь 1905 года
События ли последних дней, к которым я, оказывается, отношусь не равнодушно, а со страстностью, даже запальчивостью (мимо меня самого, из глубины, первый красный флаг, первый жест ораторов с крыльца меня привели в бешенство, как быка), наступление ли зимы, которое всегда влечет за собой поворот в эту сторону, реакция ли против усиления посещений современников, но меня опять протянуло на старое (т. е. к черносотенцам.— W).
Максим Горький,
письмо Генри Уилшайру
6 января 1906 года
Избирательный закон, учредивший Думу, был фарсом. Люди не хотят голосовать. Избиратели не желают заявлять о себе. В городах, где проживают сотни тысяч, регистрируются около ста человек. Почему? Потому что нет свободы слова и собраний. В большинстве наших городов губернаторы запретили собираться на улице больше чем троим. Если вы нарушите этот запрет, то городовой может застрелить вас, потому что теперь они вооружены винтовками. В Петербурге запрещено собираться более семи человек в одной квартире. Разве может принести какую-либо пользу Дума, когда люди не имеют свободы слова, печати и собраний.
Георгий Плеханов,
"О выборах в Думу"
февраль 1906 года
Народ имеет известный политический предрассудок — скажем, тот предрассудок, что Дума, избранная на основании закона 11-го декабря и при благодетельном воздействии военного положения на выборщиков, может улучшить его положение. Как разрушить этот предрассудок? <...> Как убедить тянущегося к огню ребенка в том, что огонь жжется? Дайте ему прикоснуться к огню, и он поймет вас в одно мгновение. Вот то же и в политике, то же и там, где дело идет о разрушении политических предрассудков народа.
9 февраля 1906 года
Дума будет созвана 18/IV. Воображаю, какой это будет циничный обман.
Ольга Чюмина,
фельетон в газете "Наша жизнь"
26 февраля 1906 года
В октябре — сюрприз погоды —Расцвели у нас свободы.Только скоро, лель-люли,Те свободы отцвели.
24 марта 1906 года
В России кадеты одерживают решительную победу. Близится развязка, но мне все кажется, что Левиафан самодержавия все пожрет.
Максим Горький,
письмо Леониду Красину
апрель 1906 года
Некоторые ценные американцы отказались от участия в комитете только потому, что собирается какая-то Дума. Я им, чертям, должен изъяснять, что это не Дума, а — дрянь.
Василий Розанов,
"В пасхальную ночь 1906"
апрель 1906 года
Будем надеяться, <...> что парламентаризм войдет к нам, как чистый гость в чистый дом. Начнем честность с капельки и разольем ее в море; посадим зернышко и вырастим дерево. Ведь новые люди шумною толпой растворили дверь нашей жизни, похожей на каземат,— и вот шумят вокруг и всюду, метут, отворяют окна, выламывают железные решетки, все чистят, переворачивают, и заморенным узникам говорят новые и ласковые слова.
27 апреля 1906 года
Какая скука, какая тоска, пустота. Страшная жара, наши увлечены открытием Думы.
Василий Розанов,
"Государь и Государственная Дума"
27 апреля 1906 года
Дума нисколько не есть подражательное, повторительное явление; никто из самых беззаветных западников не дерзнет сказать, что она есть "скопированное на Западе" учреждение; всякий скажет, с торжеством или злобою, что это есть плод огромных и натуральных напряжений русских исторических сил. Но не лучше ли сказать это одним, сливающимся, братским голосом, брося вчерашние разделения,— сказать просто и с умилением: "Дума — наша, и мы ее ниоткуда не взяли".
Анатолий Кони,
"Открытие I Государственной Думы"
27 апреля 1906 года
Но Дума, Дума — что даст она? Поймут ли ее лучшие люди лежащую на них святую обязанность ввести в плоть и кровь русской государственности новые начала справедливости и порядка, как это успели сделать со своей задачей мировые посредники первого призыва? И пред этим роковым вопросом сердце сжимается с невольной тревогой и грустным предчувствием.
Борис Пастернак,
письмо Александру Штиху
13 мая 1906 года
Хотя я совершенно свыкся с немецким климатом, но мы получаем из Москвы некоторые газеты, и твое сообщение о выборах в нашем родном городе не было для меня новостью. Однако я очень рад твоей политической активности и удивляюсь, что ты, принимая выборы так близко к сердцу, еще не арестован. И это тоже радует меня, так как в тебе русское черносотенное правительство сохранило мне друга. Меня очень огорчает, что я постепенно забываю русский язык. Мой любимый матерный язык, которым я часто пользовался, когда дрался и ругался с тобой.
Лев Толстой,
интервью Юрию Беляеву
лето 1906 года
У меня от Думы три впечатления: комичное, возмутительное и отвратительное. Комичное в том понимании, какое оттенял Шопенгауэр, то есть противоположное естественному, нужному. Вот как если упал человек, когда он должен идти и не падать. Делается именно то, чего не нужно делать. Комичное, потому что мне все кажется, будто эти дети играют во взрослых. Ничего нового, оригинального и интересного нет в думских прениях. Все это слышано-переслышано. Никто не выдумал и не сказал ничего своего. У депутатов все перенято с европейского, и говорят они по-перенятому, вероятно, от радости, что у них есть "кулуары", "блоки" и прочее и что можно все это выговаривать. Наша Дума напоминает мне провинциальные моды. Платья и шляпки, которые перестали носить в столице, сбываются в провинцию, и там их носят, воображая, что это модно. Наша Дума — провинциальная шляпка. Возмутительным в ней кажется то, что, по справедливым словам Спенсера, особенно справедливо для России: все парламентские люди стоят ниже среднего уровня своего общества и вместе с тем берут на себя самоуверенную задачу разрешить судьбу стомиллионного народа. Наконец, Дума отвратительна — по грубости, неправдивости выставляемых мотивов, ужасающей самоуверенности, а главное, озлобленности. Такая Дума никому не нужна.
2 июня 1906 года
В рукописи Ремизова ("Завывает") для "Адской Почты" читаю вчера: "Пророки проповедовали новое царство, но сердце их не вмещало пророчества, и глас их не жег сердца. Пророки проповедовали новое царство и продавали свое пророчество". Вчера в Г. Думе кричали военному прокурору Павлову: "палач, убийца".
25 июня 1906 года
В России: наказание преображенцев (неужели наш бедный Наполеон тоже пострадал), слухи о глупейшей замене Горемыкина Ермоловым. Все это так глупо, что иногда начинает казаться гениальным макиавеллизмом. Бальмонт возмущен отзывами Толстого о Думе главным образом потому, что "ему в Ясной Поляне хорошо, а те рискуют жизнью". На меня речи Толстого производят, скорее, жалкое впечатление старческого брюзжания.
Игорь и Екатерина Стравинские,
письмо Анне Стравинской
июль 1906 года
Жизнь с Тетей в двух комнатах <...> была бы для нас очень тягостной. Во-первых, полнейшее несогласие во взглядах, которое заставляет меня лично сильно тяготиться ее обществом. Ведь ты, Муся, знаешь, что теперь в этот исторический момент русской жизни чуть ли не единственный интерес в общении с людьми — это наша действительность. И вдруг о ней ни слова! Да ведь это не выносимо! <...> затем второе. Музыка, по-видимому, Тетю раздражает.
Александр Киреев,
дневник
7 июля 1906 года
Распустить или не распустить Думу? Роспуск — дело опасное, это значит идти на явный бой; ответить на ее манифест (несомненно, возбуждающий в народе неосуществимые надежды) прямым столкновением. Не распускать — значит предоставить думской левой полную свободу действий, продолжение беспрепятственной организации революции. И так не хорошо и эдак не лучше! Нет человека!!!!
8 июля 1906 года
В России тошнотворная чепуха. "В Петергофе" хотят разогнать Думу.
10 июля 1906 года
И я, и Атя видели сегодня во сне с поразительной ясностью сцены русской революции, и я поэтому не был особенно удивлен извещением о разгоне Думы. Во всяком случае, развязка близится, но пророчествовать я не могу. Я не так верю в невозможность диктатуры, но с другой стороны — слишком все бездарны, чтобы диктатура привела к чему-нибудь прочному. Все может быть отложено, но за этим развал. А, впрочем, быть может, реакция будет сразу пресечена, но и тогда два или три исхода.
11 июля 1906 года
Считаю манифест думцев, изданный в Выборге, неудачным и полумерой. По букве закона ведь государь прав. Следовательно, нужно было прибегнуть к чисто тактическому приему и объявить себя временным правительством.
12 июля 1906 года
Октябристы и трудовики собираются дать свои манифесты. И тут не могут спеться. Хламский народ, вполне достойный своего режима.
Николай Римский-Корсаков,
письмо Семену Кругликову
14 июля 1906 года
С распущением Думы на первое время ничего не предвижу, кроме давления, а потом конечно нечто будет; хоть хроническая форма этого нечто совершенно изводит. Эгоистическое чувство говорит, что лучше бы после когда-нибудь, когда помрем, а теперь еще бы пожить спокойно и культурно; но сейчас же становится совестно.
Максимилиан Штейнберг,
письмо Николаю Римскому-Корсакову
15 июля 1906 года
Сам я был в эти дни в Сестрорецке, когда получилось известие о роспуске Думы. Публика гуляла, слушала музыку и танцевала, как будто ее это совершенно не касалось. Все это производило прямо-таки гнетущее впечатление.





.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)