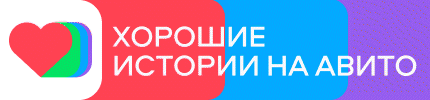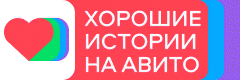Почему я опять вернулся к Полунину? А просто на «сНежном шоу», когда люди в зале с какими-то странными, застывшими в глуповатой улыбке лицами стали катать по залу огромные надувные шары, я вдруг понял: опаньки, а эпоха-то кончилась. Эпоха клоунов
КЛОНЫ КЛОУНОВ

Возле Театра Маяковского стояли два клоуна. Один повыше, другой пониже, в надвинутой на уши шапочке-менингитке. Шел странный смешной мокрый снег.
— Ребят, билеты есть? — спросил я, немного волнуясь.
— Конечно, есть. По десять тысяч, — грубо сказал тот, что повыше.
Мне стало грустно. Жаль, подумал я, что эти клоуны даже не догадываются, что они клоуны. Или догадываются? Но не в этом дело...
Дело в том, что Полунин — всеобщий отец всей нынешней русской клоунады. В общем и целом.
Когда появился Асисяй, время стояло другое. Все еще только начиналось. Еще, например, не было Жириновского. Был только Горбачев.
И рекламы еще не было. Самым главным шутником страны считался покойный пародист Александр Иванов. В нем, конечно, тоже был скрытый клоунский дар: в его неправдоподобной худобе, в его манере старого черно-белого комика — шутить с непроницаемым лицом, в его каких-то невероятных усиках... Но это была другая клоунада. Закрытая. Неясная.

Да, уже был голос Жванецкого, но он воспринимался скорее как какой-то трибун, пророк. И вид у него был совершенно пророческий — взъерошенный, взмыленный, с вечно разваливающимся портфелем...
А может, главным клоуном страны был Брежнев? Вот уж кто смешил, так смешил. Двадцать лет прошло, а анекдоты помнят до сих пор. Он вызывал по-настоящему клоунский смех — смешанный со страхом, с отчаянием, жалостью. И со смертельной скукой. Нет. Все-таки смех и скука — это какое-то дьявольское сочетание. Клоун же — это райское существо. Ангел смеха. Брежнев ангелом не был.
Я намеренно оставляю в стороне профессиональных цирковых клоунов той эпохи — Никулина, Попова, Енгибарова (хотя, безусловно, Полунин и их ученик тоже), но нет, это были клоуны манежа.
Как только появились «Лицедеи», стало мгновенно ясно: это клоуны не для цирка и не для сцены. Это клоуны для жизни. Они появились только потому, что сама жизнь стала клоунской.
Непредсказуемой. Взрывающейся, лопающейся прямо в руках...
Догадывался ли он об этом, когда бегал в праздничных телеконцертах от одного надувного телефона к другому? Не знаю. Мне кажется, он не мог не чувствовать: если из страны разом выплескиваются такие эмоции, такие надежды — это просто так не кончится.
И не кончилось. Начались репризы, гэги, буффонады, что просто держись — 91-й, 93-й, «МММ» с баснословными процентами и стонущими очередями, апельсиновый сок Немцова, драки депутатов, выборы, выборы, выборы...

Признаюсь в одной интимной вещи: за все это время мне почти никогда не было страшно (если не считать взрывов домов). Всегда было почему-то смешно.
Я помню, как проснулся на рассвете в мае 96-го, стал уговаривать себя: ну, должно же быть страшно, ну ведь придут к власти коммунисты, начнется такое... Но страшно все равно не было. Все было как-то понарошку. Не по-настоящему.
Было всегда ясно одно — не надо слишком близко к этому подходить. Ведь клоуны, они такие: разойдутся, начнут стрелять, поливаться водой, бить по морде, а ты попадешься им под горячую руку. И некого тогда винить, кроме себя. С клоунами надо осторожней.
Почему я вообще стал рассуждать на такую странную тему: «Полунин и эпоха», «Полунин и политика»? А просто на «сНЕЖНОМ шоу», когда люди в зале с какими-то странными, вдохновенными лицами стали катать по залу огромные надувные шары, я вдруг ясно почувствовал: опаньки, эпоха-то кончилась.
Все в эстетике, в стиле этой эпохи (как выяснилось вдруг, на днях, в этом самом Театре Маяковского) было как бы придумано, прочувствовано через Асисяя.

Вот мужик в рекламе, который сидел зачем-то голый в бескозырке в ванной... Вот премьер-министр, который говорил митьковскими шутками, вот телеведущие, которые жизни своей не мыслили без настоящей, крупной (ну или хотя бы мелкой, срамной) провокации... Все это стиль Полунина. Мы этого даже не осознаем, но это — стиль Полунина.
Без присутствия его грандиозной тени вся эта глобальная клоунада — в жизни, на телеэкране, в рекламе, газетном заголовке, языке, мозгах, Думе и на своей собственной кухне — была бы недопроявленной. Она бы не сработала. Смеха бы не было.
А значит, спастись бы нам не удалось.
Спас страну именно смех. Так же, как и я, многие люди верили в клоунаду. В то, что это — клоуны.
Вот любимый «асисяй», тот самый прикол с телефонами, сделавший клоуна знаменитым — как же потрясающе Полунин транслирует эмоции! Современный человек так уже не ждет звонка у телефона, он не разговаривает так напряженно и страстно — другая связь, другие телефоны, другие эмоции. Люди бегут по жизни с прижатой к уху трубкой. Что-то бормоча на ходу. Нет той яркости, той силы, которая была в этих телефонах-автоматах, в этих ожиданиях звонка...
Вот знаменитый номер с бумажным снегом. Я смотрел на него с самого верхнего яруса, практически из-под люстры. Зал просто замер, вихрь из бумаги обрушился на расслабленных, разогретых теплыми эмоциями людей и заставил их содрогнуться. Вжаться в свои мягкие кресла. Тогда (сколько лет назад?) Полунин наткнулся на важную вещь: снег может быть виртуальным, погода может быть виртуальной, страх может быть виртуальным, убийство может быть виртуальным, пафос (клоун распахивает крыла и под страшную музыку идет навстречу бумажной метели) тоже может быть виртуальным. Ничего настоящего нет. Люди придумывают сами свой мир.
Сейчас это открытие не потрясает глубиной и свежестью. Оно очень грустное, это открытие. Оно напоминает нам, как мы верили в этот виртуальный мир поначалу — в его яркость, его силу, верили как дети. Верили-верили... и разуверились. Я читал тексты Полунина по-своему, может быть, неправильно, как старый любимый букварь. И поражался тому, что все он рассказал нам про нашу эпоху почти заранее.
Вот с чего начинается. Клоун намыливает веревку, накидывает на голову, начинает ее тянуть. Тянет-тянет. Веревка все никак не кончается. Вдруг из-за кулис появляется второй клоун, второй конец веревки с такой же петлей накинут ему на шею. (Ну, как я мог все это забыть?)

Раньше казалось — да, это номер про то, что в жизни нет одиночества. Все связаны, все нужны друг другу. Любите друг друга.
Сейчас стало понятно: да, про одиночество, но не только. Еще и про то, что в нашей жизни исчезла свобода. Не политическая, а настоящая. Нутряная. Невозможно делать что-то, потому что ты так хочешь. Всех опутала паутина взаимозависимости. Человек, постоянно помнящий о том, кто находится на другом конце веревки, лишен главного внутреннего ресурса — ресурса воли.
Или вот реприза с паутиной. Технически очень сложный, виртуозный номер. Клоун начинает чистить помещение, подметать, улучшать. Но паутина, которую он пытается стряхнуть с лампы, почему-то волшебным образом не уменьшается, а растет. Она заполняет сцену, первые ряды, потом накрывает целый зал. Весь театр!
Именно это с нами и случилось. Не только с нашей страной. Наша страна — галерка. Началось с первых рядов. Человечество, озабоченное чистотой, влипло в гигантскую паутину.
Смеяться было некогда. Я почему-то все время думал.
...Хотя в зале, наверное, только я один был такой серьезный. Я ходил между зрителями в антракте, вслушивался в их разговоры, улавливал интонацию смеха. Я пытался понять, что же на самом деле происходит.
Вернее, что уходит?

Конечно, говорить о каком-то завершении в связи со «сНЕЖНЫМ шоу» немного даже кощунственно. Полунин же на вершине успеха. Не было в Москве уже давно более аншлагового спектакля. Да что там Москва. Слава — артист всего мира. Мировой клоун.
Но отсюда, из России, всегда все видится как-то иначе. Уходит клоунская тень нашей эпохи. Есть ощущение какого-то глобального «до свиданья». С чем?
Потом мы вышли из театра.
Всегда надо вдохнуть свежего воздуха, чтобы что-то понять. На спектакль я взял сына. Второй билет покупался для него. Кстати, удалось купить по баснословно низкой цене — всего за триста рублей. А не за триста долларов. Как будто Полунин показал очередной трюк — на секунду вновь уравнял рубль и доллар, как в брежневское время.
Ну так вот, мы сидели на разных местах, потом пили кофе, потом опять расходились, звонили друг другу с первого этажа на третий, потом опять встречались. Наконец я спросил: ну как тебе?
Он пожал плечами.
— Как-то странно, — сказал он (в мае ему исполнится пятнадцать). — Вроде смешно, а вроде нет. Главное впечатление, пап, знаешь, какое?
— Какое? — с замиранием сердца спросил я.
— Что ты на него похож. У тебя и шапка такая же и походка...
— Не может быть, — сказал я. — Хотя, если тебе так кажется...
И мы опять пошли пить кофе и разговаривать о футболе.
Походка Полунина!
Его пластика: мелкие движения рук, клоунский шаг, умение обернуться так, что целый мир оборачивается вместе с тобой. Но главное — походка. Не сравнимая ни с чем.
Не случайно, что первый эпизод шоу — это просто выход клоунов. Заснеженная улица. Идут люди в смешных шапках-ушанках. Уши огромные, оттопыренные, как крылья ангелов. Люди смотрят себе под ноги, натыкаются друг на друга, идут с опущенной головой, нелепо одетые, погруженные в себя.

Это мы. Это я.
Это наш мир уходит из этой эпохи. Мир погруженных в себя, ко всему привычных, расслабленных людей, которые никогда не боялись быть смешными и могли в любую минуту рассмеяться над собой. Они называют нас пофигистами. Не знаю, при каком строе будет жить это поколение и какие кризисы будут сотрясать их мир, но я бы хотел, чтобы смысл этой полунинской походки стал им понятнее. Им придется учиться ходить ТАК. Нас никто этому не учил. Это пришло как-то сразу ко многим...Хотя и не ко всем.
Эпизод прощания есть и в самом спектакле.
Полунин выходит на сцену с огромным чемоданом. Выносит пальто и вешалку. Просовывает руку в пустой рукав (ну как, как я мог все это забыть?). Рука прощается, рука гладит, обнимает, рука вынимает прощальное письмо и дает клоуну. Клоун уходит. Поезд дает последний свисток. Письмо разлетается на мелкие клочки и становится бумажным снегом.
Но мне был важен только сюжет. Человек должен хоть куда-то уехать. Он прощается не с нами, не с кем-то. Хотя и с нами, и с кем-то. Он прощается, главным образом, с самим собой. Никто не может уйти в никуда. Полунин остается с нами тысячью жестов, походкой — моей и вашей, неразгаданными символами. Просто началась другая клоунада. Другой смех.

За несколько дней до Полунина я был тут же, в Маяковке, на «Женитьбе». Это спектакль Сергея Арцыбашева. Спектакль странный. Непонятный. Артисты, включая Подколесина, невесту, сваху, всех женихов, на протяжении всего спектакля поют. Поют городские мещанские романсы. Сначала непонятно, зачем они поют? К чему? Почти мистический, холодный, загадочный текст Гоголя приобретает сквозь это пение странные вкус и запах. Запах слез, вкус любви. Александр Лазарев, то есть один из женихов, берет ленту из художественной гимнастики и танцует с этой лентой. Крутит ее на сцене.
Или вот премьера в «Современнике». «Мамапапасынсобака». Четыре взрослые актрисы играют детей. Играют потрясающе. И не только трагикомическая Галина Петрова. Красавицы Ольга Дроздова и Чулпан Хаматова, вроде бы уже такие привычные в своих «роковых» типажах, отчаянно и самозабвенно играют клоунаду. Зритель до смерти благодарен.
Вроде бы после такого смешения всего и вся зритель должен был усомниться во взрослости, как в устойчивом понятии. Непонятно вообще, дети мы или взрослые? Но вдруг происходит обратное: слепившийся в кучу мир взрослых и детей после этой клоунской каши характеров, полов, биологий и физиологий вдруг аккуратно разлепляется. То, что должно быть отдельно, становится отдельно — хотя бы в зрительской голове. Наш мир андрогинов, старлеток, лолит, старых юношей и умудренных опытом девушек становится как-то... чище.
Так же, как и в «Женитьбе», от вмешательства клоунады становится чище и яснее гоголевский текст.
У сегодняшней клоунады другая функция. Не сделать мир относительным, смертельно свободным и предельно открытым. Наоборот. Закрыть некоторые двери. Вернуть вещам их тяжесть, а понятиям смысл.
Все зрители катали огромные шары, а я смотрел на люстру, которая чуть качалась прямо напротив меня. «Влезть на люстру, что ли? — подумал я. — Ведь Асисяй уезжает. Это же надо отметить».
Но вместо этого сдал бинокль, взял куртку и поплелся по улице, опустив голову. Шел смешной мокрый снег.
Борис МИНАЕВ
В материале использованы фотографии: Юрия ФЕКЛИСТОВА