Воля к удержанию
Игорь Гулин о книге Михаила Айзенберга «Это здесь»
В «Новом издательстве» вышла книга Михаила Айзенберга «Это здесь», большая мемуарная проза одного из самых значительных русских поэтов старшего поколения, документ истории советской подпольной культуры и исследование природы памяти
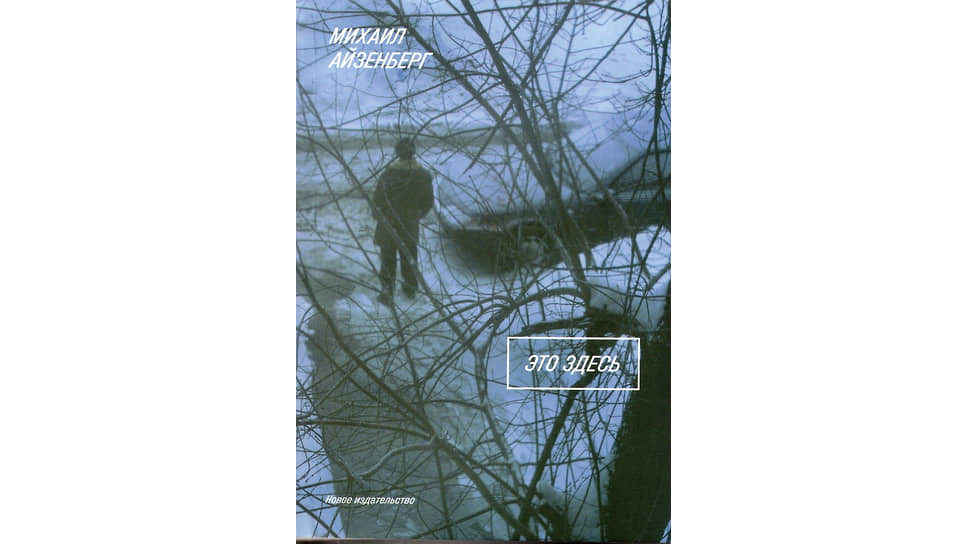
Фото: Новое издательство
Фото: Новое издательство
У Михаила Айзенберга уже была одна книга воспоминаний — вышедшие в 2007 году «Контрольные отпечатки». Это были вполне классические мемуарные очерки с внятной миссией: объяснить кое-что человеку, которого там не было (там — это в подпольной литературно-художественной Москве 1970-х). Книга «Это здесь» отчасти продолжает ту первую, подхватывает многие ее сюжеты, но устроена она совсем по-другому. В ней нет «точки входа» — когда проговариваются условия, происходит договор с читателем, представляются герои. Здесь фамилии, имена, места возникают по ходу повествования без всякого объяснения. Читатель оказывается одновременно своим и чужим, приглашенным разделить самое сокровенное — и сторонним свидетелем давно идущего разговора.
Такой парадоксальной игре дистанцией, когда дружеское тепло неотличимо от презрительного холода, Айзенберг, кажется, научился у Павла Улитина — великого подпольного писателя-заговорщика и одного из главных героев этой книги. В страстных текстах-шифровках Улитина всегда есть след какого-то большого сюжета, который остается для читателя навеки недоступным. У Айзенберга этот отодвинутый пласт располагается все же намного ближе. Сюжет сразу опознаваем: это история жизни, мемуары.
В классических мемуарах всегда есть насилие над памятью, жульничество оформления жизни в нарратив — роман воспитания с предсказуемыми вехами и расстановкой персонажей. Айзенберг обманывает этот соблазн — перемешивает фрагменты истории, так что получается не хаос, но и не слишком легковесная гармония. После зрелости идет юность, за ней — детство, за ним — старость. Все это не этапы пути, но отдельные, самоценные состояния. Также и отношения внутри позднесоветского андерграунда (о которых в книге, конечно же, очень много) не встраиваются в историю культуры, а остаются мгновениями нежности и злости. Каркас сюжета разрушен, но его фрагменты можно увидеть гораздо яснее. Жизнь превращается не в биографию, а в череду всполохов, каждый из которых способен вновь ослепить.
Это сверкание охватывает почти полвека (Айзенберг родился в 1948 году, первые воспоминания относятся к началу 1950-х), и к концу книги наступает легкое головокружение. Не оттого, что жизнь эта сколько-нибудь авантюрна (наоборот: больше всего в ней сидения на кухнях), а оттого, сколько в ней напряжения.
Воспоминания прерываются фрагментами старых писем и записями снов. То и другое будто бы выглядит стилистическим излишеством, но на деле многое проясняет. Письма документальны, но, оказываясь включены в повествование, они не заверяют воспоминания, а, напротив, придают неуверенности: контекст сообщения часто невозможно восстановить; на реплику, поданную сквозь время, сложно адекватно ответить. Со снами — похоже. Известно, что сон невозможно вспомнить и тем более записать. Возможен лишь рассказ проснувшегося об упущенном сне, сотканный из натяжек и догадок. Так же и с событиями жизни: их невозможно вспомнить честно. Они путаются, наплывают друг на друга и мешаются. Остаются фрагменты, которые можно стягивать усилием воли и слова, пытаться удержать.
Усилие удержания — главное в книге Айзенберга. Можно все же попробовать обозначить ее сквозной сюжет. Он — в попытках автора не дать разойтись состоящей из трескучих и ненадежных материй ткани чувственного мира (возможно, тут важна первая айзенберговская профессия — реставратора церковных памятников) и не дать разорваться столь же хрупкой социальной ткани. Отсюда — подробно описываемая в книге система еженедельных встреч («четвергов», «журфиксов»), задававших структуру жизни айзенберговской компании советского периода,— посиделок, превращавшихся в почти священные ритуалы.
Желание разрушить и перевязать новыми нитями сюжет собственной биографии тоже связано с этой волей к удержанию. Напряжение обычного сюжета — слишком слабое, оно связывает людей и события в историю, но истории недостаточны, они слишком легко заканчиваются. Любой конец — вызов писательской миссии, и Айзенберг принимает его. На протяжении всей книги он пишет о расставаниях. В первой половине — о переживаемых почти как смерть отъездах друзей в эмиграцию. Во второй — о настоящих смертях. В том числе и о маячащей где-то собственной. Но «Это здесь» — не книга прощаний, как иногда бывает с мемуарами. Наоборот, сила памяти празднует тут над смертью неторжественную, глубоко частную победу.
цитата
Стоим с Глезеровым перед клумбой с цветущими пионами, рядом с отцветающим, но еще пахнущим жасмином. Это кратовские запахи.
— В Библии сказано,— говорит Леня,— что запах — единственное, что избежало грехопадения.
В ту же секунду мои мысли понеслись, как зайцы, в разные стороны. Одного зайца я сразу поймал, но упустил второго. Потом нагнал второго, но забыл, каков первый. И только ночью собрал их вместе.
У запаха есть два отличия: его нельзя описать; его невозможно забыть. Оба этих обстоятельства, как выясняется, что-то говорят нам о грехопадении. А именно: мир, который можно описать — мир падший. Расплата за грехопадение — ущербность и хрупкость памяти; а иначе мы бы помнили все, каждую секунду жизни. Это событие позволило нам описывать и лишило возможности помнить.
Михаил Айзенберг. «Это здесь». М.: Новое издательство, 2021

