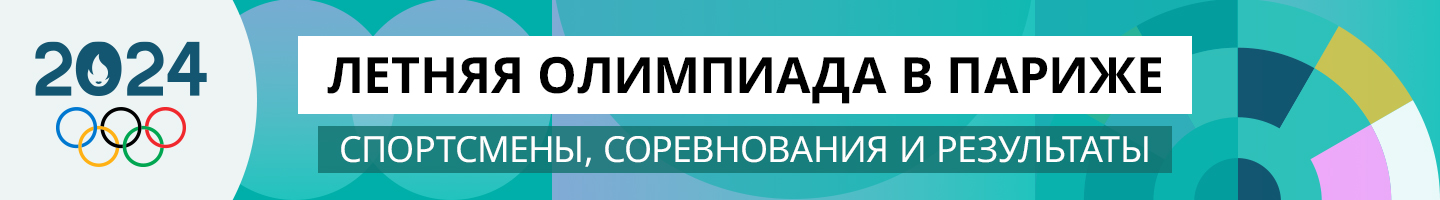Современность 150-летней выдержки
Как Париж анализировал собственный культурный миф накануне Олимпиады
26 июля в Париже открываются XXXIII Олимпийские игры. Полупустой Париж накануне Игр — само по себе странное зрелище. Но французы не были бы французами, если бы не попытались тут же (точнее, даже немного заранее) проанализировать особенности момента в историко-социальном контексте. Комментирует Кира Долинина.

Исследуя искусство XIX века, парижские музеи показали истоки не только современного города, но и современного социума
Фото: Laure Boyer / Hans Lucas / AFP
Исследуя искусство XIX века, парижские музеи показали истоки не только современного города, но и современного социума
Фото: Laure Boyer / Hans Lucas / AFP
Париж не только стоит обедни, но и очень долго являлся столицей мира, диктующей моду на платья и искусство, на возвышенные теории и самые обыденные практики, на индустриальные новинки и манеру поведения. Его мало увидеть (и умереть), в нем надо пожить той жизнью, которую он диктует, хоть день, хоть месяц, хоть долгие десятилетия, и даже будь ты последний левый марксист, Париж не даст тебе окончательно выйти из той игры «современной жизни», которую описал в 1863-м ее знаток, певец и обличитель Шарль Бодлер.
В выставочной афише весенне-летнего сезона французской столицы доминировали две выставки, напрямую рассказывающие о том, как именно Париж стал тем Парижем, куда стремятся сегодня сотни тысяч гостей; как сформировались паттерны обитания в этом городе; что предлагает Париж и что прямо-таки навязывает. Первая (не по хронологии, а по точности удара в цель) выставка — экспозиция в Музее декоративного искусства (MAD), посвященная возникновению и развитию парижских «больших магазинов» (универмагов), «Рождение больших магазинов. Мода, дизайн, игрушки, реклама, 1852–1925». Вторая — номинально вроде бы находящаяся в зоне чистого искусства выставка Музея Орсе «Париж, 1874: изобретение импрессионизма».
«Большие магазины» (первый, Au Bon Marche, открылся в 1852-м, Les Grands Magasins du Louvre — в 1855-м, Le Bazar de l’Hotel de Ville — в 1856-м, Printemps — в 1865-м, а Samaritaine — в 1870-м), конечно, чисто консьюмеристский рай, как были им, так и остаются сейчас. Но не рассказ об изобилии тут первичен. Выставка подробнейшим образом разбирает механизмы превращения средневековой системы розничной торговли в маленьких, часто с одним типом товара лавочек в гигантскую машину магазина с универсальным ассортиментом, стремительно завоевавшую тела и души покупательниц, съедавшую их время, силы и деньги. А заодно полностью переделавшую само представление о процессе продажи и покупки.
Выйдя из первого зала под суровым взглядом создателей первого «большого универмага» месье и мадам Аристид Бусико, посетитель выставки двигается вслед за бароном Османом с его переделкой Парижа в современный город солнца, съевший узкие улочки старого Парижа и раскинувший свои проспекты и бульвары во все стороны. Он узнает о том, как в 1860–1870-е Париж стал городом вокзалов и железных дорог, привозивших тысячи рабочих рук в его магазины каждый день. Промышленная революция, банки, страховые конторы, деньги к деньгам — все это выросло в страсть к радостям жизни, которые можно было купить легко и быстро. Универмаги Второй империи научили женщин покупать, утешили мужчин исключительным комфортом этого процесса, уравняли в праве покупать в одних и тех же местах разные классы, вывели товары для детей в отдельную, чрезвычайно доходную группу товаров, подарили миру немыслимого охвата рекламные кампании, механизм распродаж и закон того, что если продавать дешевле, но больше, то выиграешь.
Эмиль Золя, отметивший каждый шаг этого процесса в романе «Дамское счастье», описывал действия своего героя, чьим прототипом являлся Бусико, в апокалиптических тонах: «Начинался отлив, груды материй загромождали прилавки, в кассах звенело золото <…> Обобранные, изнасилованные, побежденные покупательницы удалялись, пресытившись и испытывая затаенный стыд, как после предосудительных ласк в какой-нибудь подозрительной гостинице <…> Он подчинил их своей воле, добившись этого непрерывным потоком товаров, низкими ценами, обменом купленных предметов, любезностью и рекламой <…> Он создавал новую религию; на смену опустевшим церквам и колеблющейся вере пришли его базары, отныне дававшие пищу опустошенным душам. Женщина бывала у него в праздные часы, в часы трепета и волнения, которые раньше проводила в сумраке часовен, ища выход своей болезненной страстности, прибежища в нескончаемой борьбе между божеством и мужем; она предавалась здесь культу тела, вводившему ее в мир небесной красоты».
Но что может объединять низкое (торговлю) с высоким (импрессионизмом)? Музей Орсе давно и последовательно снижает пафос восторженной любви к изысканным мазкам импрессионистов через умнейшие выставки с четкой социологической подложкой. Ничто в искусстве не живет в вакууме, говорят они. И искусство XIX века — все сплошь дитя общественных процессов своего времени.
Ведь что больше всего раздражало смеявшуюся над первыми выставочными опытами будущих импрессионистов публику? Явная «незаконченность» картин (то есть они считывались как бракованный товар) и тематика, та самая «современная жизнь», которой, начиная с Курбе, новые художники стали отдавать предпочтение, оставив позади почтенные сцены из античной, библейской и французской истории. Бульвары, кафешантаны, загородные ресторанчики, вокзалы, театры, бордели — все это стало сюжетами огромных, ярких, страстных картин, оставив позади Венер и святых. В каком-то смысле импрессионизм как метод близок к тому способу познания окружающего мира, который описывает Бодлер: его сверхфланер «ищет нечто, что мы позволим себе назвать духом современности, ибо нет слова, которое лучше выразило бы нашу мысль. Он стремится выделить в изменчивой моде скрытую в ней поэзию, старается извлечь из преходящего элементы вечного».
Париж — город-театр, город не действия, но наблюдения. С этой банальностью согласится любой, просидевший там за выставленным перед кафе столиком более получаса. И все же только в этом городе гости настолько забывают себя в покупках. Марксист и скептик Вальтер Беньямин называл фланера «шпионом, которого капитализм посылает в мир потребления» и видел «последнее воплощение фланера» в человеке-бутерброде. Дети 1968 года пытались снять с себя эти кандалы. Не очень получилось. И вот сегодня полупустой и замерший город, в котором и до музеев добраться — сплошная головная боль, свидетельствует о том, что XIX век в нем победил: люди двигаются по маршрутам, расчерченным «поэтами современной жизни» 150 с лишним лет назад. Олимпиада закончится, а Париж — нет.