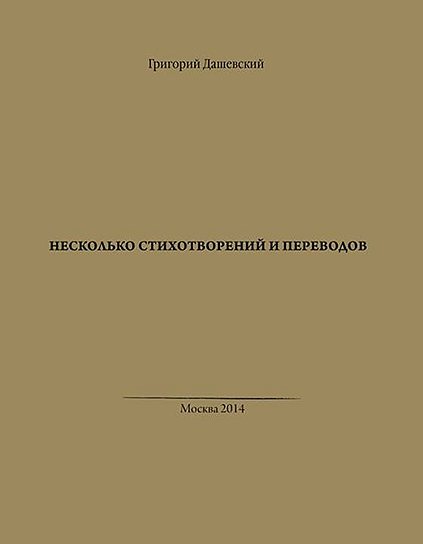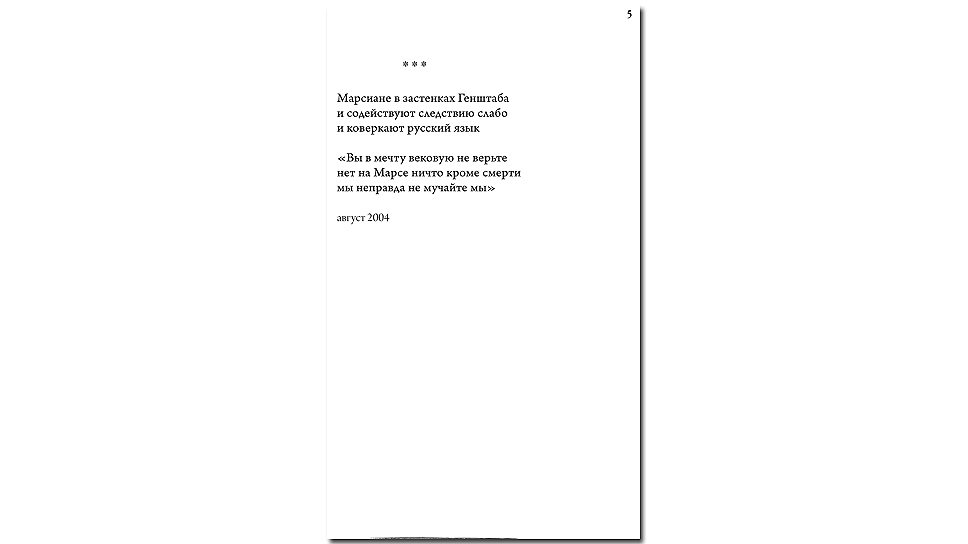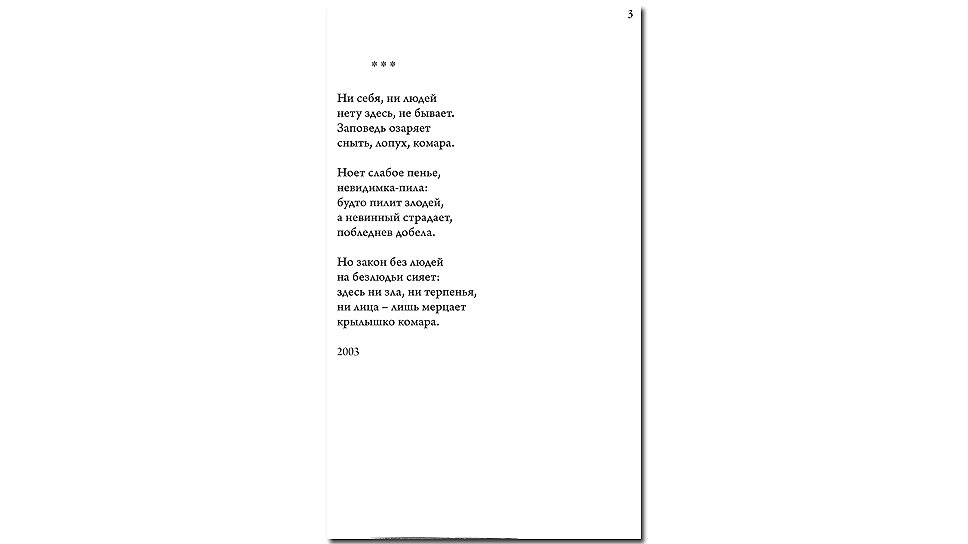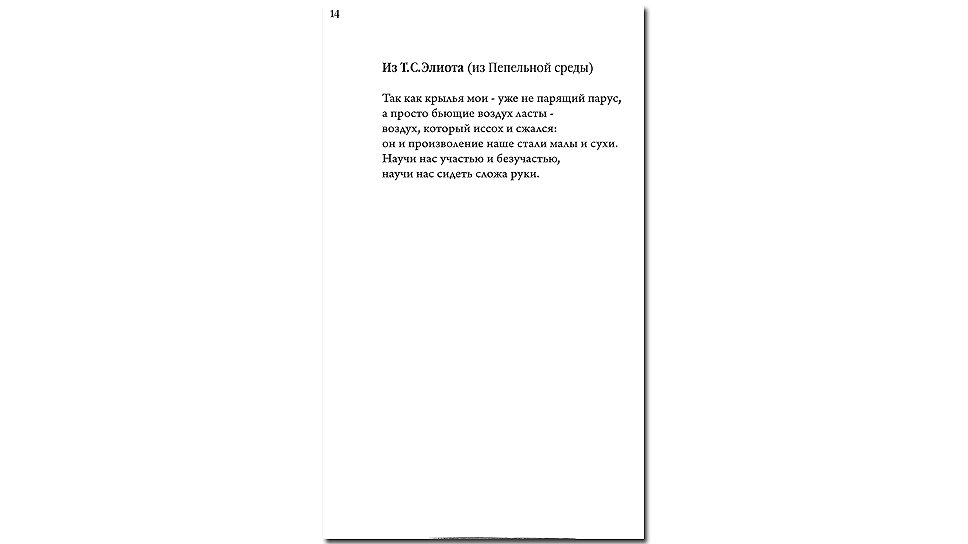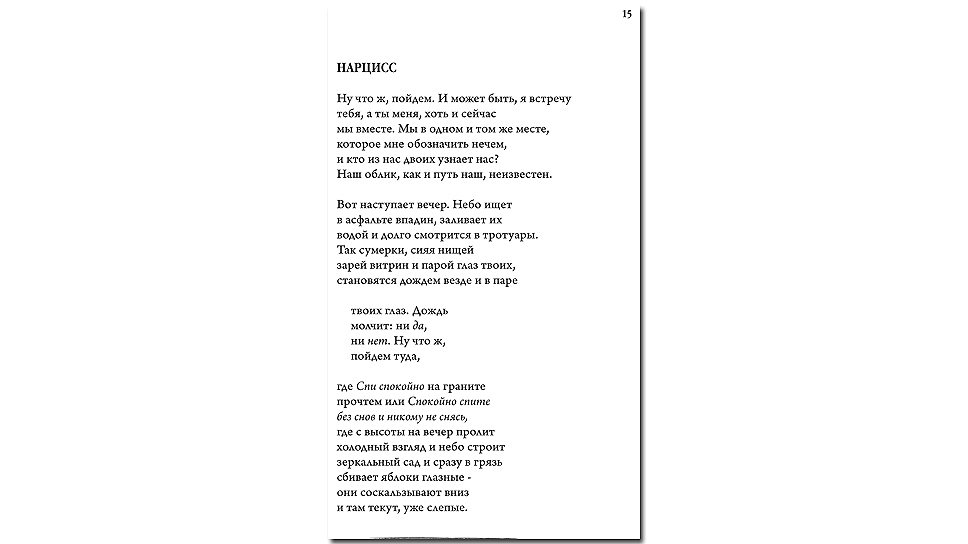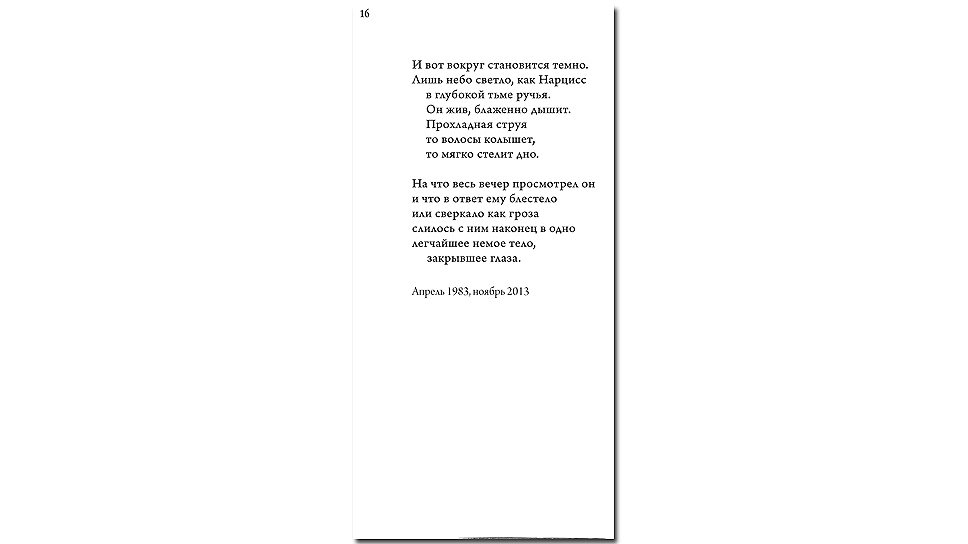Ясность потери
Игорь Гулин о новой книге стихов Григория Дашевского
В издательстве "Каспар Хаузер" вышла пятая книга поэта Григория Дашевского. "Несколько стихотворений и переводов" Дашевский составил этой осенью в больнице, незадолго до смерти. Здесь — почти все, что написано после книги "Дума иван-чая" 2001 года. Но этот сборник — не итог деятельности, не подведение результатов "для публики". Не совсем. Это книга, сделанная для одного читателя — поэта Станислава Красовицкого — в ответ на его просьбу прислать стихи,— книга-письмо. И эта частность сохраняется в ней, уже опубликованной. В качестве образца Дашевский предложил дизайнеру Евдокии Красовицкой "Тяжелую лиру" Ходасевича: никакой избыточности, самое простое оформление, несколько текстов.
В это несколько хочется вглядываться. Дашевский написал мало. Сейчас кажется, что — для нас — мучительно мало: весь корпус (и это телесное слово тут — не формальность) его текстов вызывает чувство нестерпимой нехватки. Но точное слово не-сколько подсказывает, что количество тут ни при чем. Слишком маленькие, всегда недостаточные стихи его не обретают комфортную плотность, собираясь во множество. Ты все равно выходишь из них, претерпев потерю — не приобретение — опыта. Для похоти чувственно депривированного читателя стихов (а мы все — немного такие) эти тексты не подходят. Сюда просится замаранное слово "катарсис", но только в самом буквальном значении — очищения, после которого — нагота и ожидание. С этой потерей невозможно жить дальше, как живем мы с самым радикальным опытом, полученным из стихов или вне их. Она останавливает, возвращает, прекращает счет.
Одновременно — в этом несколько есть важное у Дашевского укрощение, одомашнивание слов, благодаря которому в тревожном мире его текстов появляется теплота. Это особенно заметно в переводах — так приближаются, протягивают руки чужие тексты. В новой книге граница между стихами и переводами проведена отчетливее, чем в прошлых, где говорением поверх чужого текста были многие стихи. Но на самом деле эта грань здесь устроена еще сложнее.
После книг "Генрих и Семен" и "Дума иван-чая" мы привыкли видеть в Дашевском поэта, уходящего от собственной речи к "чужим" словам, приносящего лирическое "я" в жертву "мы", общему. Об этом переходе много написано, и когда говоришь о нем, не хочешь, но обращаешься к формулам: они отгораживают от опасности говорить напрямую.
Функция отгорожения интересовала Дашевского. Это и "слова вежливости" как прообразы поэтической речи, и волновавшие его психологические структуры переноса интереса, влечения, страсти — с воображаемого, недоступного объекта на отделяющую от него границу, посредника. Наконец, это препона, туман, на котором способны проступать образы и желания,— основание самого безжалостного устройства его поздних стихов (обо всем этом — в предисловии к "Думе иван-чая"). Отчасти про Дашевского казалось, что сам он добровольно стал подобной завесой для проекции чужих голосов, чужой боли (Катулла, Сафо, Блейка, ребенка, гопника, сорняка), заместившей собственную — о которой так много в ранних стихах. Уже в новой книжке, в переводе из Джерарда Мэнли Хопкинса: "Я желчь, изжога. Велено мне свыше / горчить — горчу; мной горечь стала".
Читая "Несколько стихотворений", этот образ оставляешь. В первых стихах новой книги устранение, вымарывание говорящего, героя, поэтического субъекта достигает у Дашевского высшей точки (или, наоборот, низшей, не отличишь). Стихотворение, речь, боль, наконец, может состояться само-по-себе, "на безлюдьи". Эти стихи образуют нечто вроде контура отсутствия — будто силуэт вырезан, устранен из пейзажа. Но затем — удивительным образом — по этому контуру заново проявляется фигура отчетливая, ясная до невозможности. Будто бы пройдя через смерть, превращение в тень, неправду, исчезновение в собственных стихах ("будто ты уже отсутствуешь") — как через Царство Мертвых, о котором он много писал в ранних текстах,— Дашевский получил возможность говорить от себя, но совсем по-новому, возможность некоей "последней" прямоты. Не лирической откровенности, открывания сердца, наоборот — прямой речи перед смертью. И наверное, перед теми, кто готов в этот момент быть рядом. В книге так написано одно стихотворение, 2009 года.
Дальше идут переводы — из Суинберна, Хопкинса, Горация, Фроста, Адриана, Элиота. Это действительно переводы, не переложения, как "Имярек и Зарема" и другие тексты из прошлой книги. Но в них эта прямота чувствуется особенно отчетливо. Чужие голоса здесь не становятся больше своими или общими. Скорее их слова — почти все они говорят о смерти — предмет согласия. Согласие это, конечно, и этимологическое — совместное звучание, и этическое — говорение "да". Может быть, это да — тоже своего рода слово вежливости, но вежливости совсем новой, в которой кивок головы выглядит не уходом от слишком своих слов, а знаком воли переводчика и поэта. Она ощущается острее, чем когда-либо.
Последний текст книги — переработанное совсем раннее стихотворение "Нарцисс". В нем это согласие становится еще и согласием с самим собой. Между лирическим героем молодого Дашевского и его голосом, прошедшим сквозь отсутствие и говорящим последние слова — последние и требующие возвращения, повторения,— происходит встреча, мир, совпадение. Тот самый лирический герой оказывается отражением того, кто все это время был рядом, говорил за него, потом — за нас, и в самое последнее время — с нами. Наблюдать эту встречу неуютно, страшно, она — совсем не наше дело. За возможность ее увидеть испытываешь стеснительную и жгущую благодарность.
М.: Каспар Хаузер, 2014