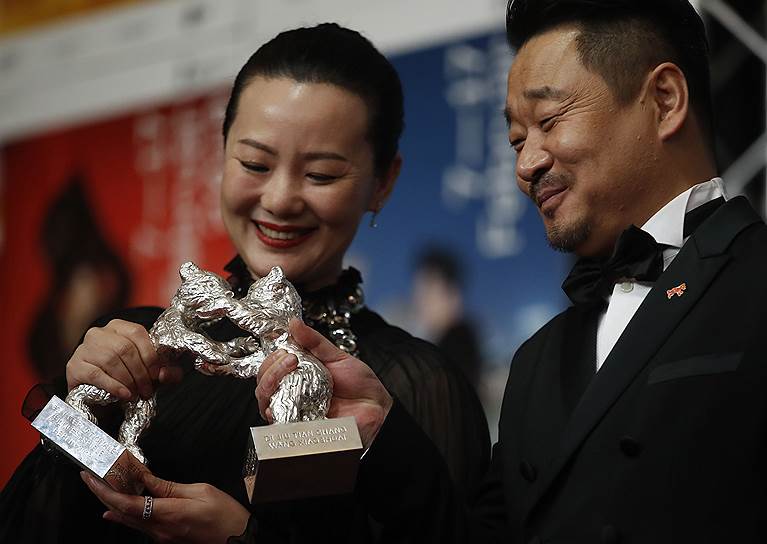Главный приз 69-го Берлинского кинофестиваля получила картина израильского режиссера Надава Лапида «Синонимы». Обозреватель «Огонька» поговорил с призером о поиске идентичности, иллюзиях молодости и парадоксах взросления.

Режиссер Надав Лапид во время вручения «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале
Фото: EPA-EFE / Vostock Photo
— Вы признавались, что, по сути, рассказываете собственную историю — о том, как пытались уехать во Францию. Что именно произошло с вами в тот момент?
— Двадцать лет назад я закончил службу в израильской армии, вернулся в Тель-Авив и поступил в университет. Одновременно нашел работу в газете и начал писать рассказы. Я был молод, и жизнь казалась мне прекрасной. Но года через полтора после возращения что-то случилось. Есть такой литературный штамп — типа «ему был подан знак». Обычно такие выражения вызывают ухмылку. Но в моем случае это не было шуткой. Со мной именно что-то подобное и случилось. Правда, Бог ко мне не обращался. Мне пришло послание другого характера. Кто-то или что-то сказало мне: «Беги!» Неожиданно у меня возникло сильное желание покинуть страну, и не просто покинуть, а отказаться от всего израильского, что во мне было. Через 10 дней я уже стоял в парижском аэропорту, без друзей, знакомых, рекомендаций и почти без знания языка, всего лишь с одним желанием «жить и умереть в Париже».
Я верил, что порвать с прошлым можно лишь тогда, когда придется пережить сильнейший шок.
Самое дорогое, что у меня было — в то время писателя и журналиста,— родной язык. Мне казалось, что отказ от себя в первую очень произойдет, если я откажусь от родного языка. И я решил ни при каких обстоятельствах не пользоваться родной речью. Во Франции я общался как мог на французском или с помощью жестов. А когда мне звонили родители, я им отвечал на английском. Все, что вы видите в фильме, происходило со мной на самом деле. В тот момент я даже не мог себе представить, что когда-нибудь стану режиссером и сниму об этом фильм. Но, к счастью, у меня была привычка вести своего рода дневник, где я делал заметки, в которых фиксировал происходящее, эти записи потом очень пригодились во время работы над сценарием. «Синонимы» — история чужеземца, иностранца, попадающего в новый мир. Он любопытен, противоречив, вызывающ. Двое молодых французов, которых он встречает на своем пути, очарованы его экзотикой. Мой фильм о том, насколько каждый из нас является пленником собственной личности, своего прошлого, своего мышления. Он также о том, насколько далеко может зайти человек, если он решит полностью изменить свою идентичность, отказаться от прошлого и изменить образ мыслей. У меня никогда не было большого желания рассказывать о себе правду и тем более увидеть себя в качестве главного героя на большом экране. Но только события, которые ты сам пережил, можно наиболее полно изобразить и объяснить. Конечно, можно взять абстрактную личность, придумать для нее проблемы и пытаться их разрешить. Такой подход тоже возможен. Но я уверен, что самые тонкие и достоверные подробности можно почерпнуть только из собственной биографии. Поэтому в данном случае мне пришлось посмотреть на себя через лупу.
— У вашей картины поэтическое название. Почему «Синонимы»?
— Поэтику мне подарили французы, как и кино. Французское кино довольно аполитично. Во Франции существует врожденная нелюбовь к ясным посланиям, кино для них — искусство, в котором режиссеры заняты не показом героизма, а раскадровкой, освещением и драмами отдельного человека. Наверное, сегодняшнее кино сильно изменилось, но не те картины, которые оказали на меня влияние. Прежнее французское кино приносит эстетическое наслаждение, оно размышляет, но не судит. Свой фильм я назвал «Синонимы», конечно, не случайно. Многие сцены, собственно, и построены как параллели, переклички, повторы. Они кажутся несопоставимыми, разными, но означают почти одно и то же — как синонимы в иностранном языке, которые заучивает мой герой, прогуливаясь по улицам Парижа. Мой герой Йоав не желает восхищаться Парижем. Когда друзья просят его взглянуть на город, тот все время смотрит себе под ноги. Красота Парижа вызывает в нем страх. Ему проще адаптироваться на новом месте, игнорируя эту красоту, а заодно и реальность. Он хочет смотреть на Париж, но не видеть его. Потому что так ему проще сделать этот город и эту страну частью себя.

Главный герой старается не смотреть на Париж (в главной роли — Том Мерсье, слева)
Фото: Guy Ferrandis / SBS Films
— Главный герой почти половину фильма проводит нагишом. Это символ или случайность?
— Нагота моего героя также подобна метафоре. Он пытается отказаться от себя, а это должно произойти вплоть до отказа от собственного тела. Он обнажен, потому что все потерял, потому что с ним произошел процесс перерождения. Дети, когда появляются на свет, тоже голы. Мне почему-то пришла на ум картина Романа Полански «Ребенок Розмари», в которой рождается дитя с демоном внутри. Так и мой герой: он собирается изгнать из себя израильского демона только для того, чтобы адаптировать другого — французского. Разница между двумя демонами небольшая, у француза лишь больше шарма. В какой-то момент герой понимает, что демон, который в нем сидит и с которым он все время борется, является его собственным. Герой отказывается от языка, но от прошлого у него осталось тело, к тому же помеченное религиозным обрядом. Поэтому он пытается надругаться над ним. Сначала он решает его заморозить, но, когда замерзшего иностранца спасают двое французов, его нагота символично указывает на возрождение. Герой морит себя голодом и, наконец, решает продать свое тело. Но как это бывает в реальности, когда наше тело оказывается умнее наших мозгов: в кульминационный момент тело издает крик о помощи — и герой выражает свою боль на родном языке. Израильтянам действительно свойственен определенный радикализм и категоричность в суждениях. Возможно, это связано с темпераментом или с воспитанием. Израильтяне с большой привязанностью относятся к своей стране. Поэтому отказ от родины возможен для моего героя только через радикализм и даже жестокость — по отношению к себе.
Важнейшие фильмы Берлинского кинофестиваля
— Почему же Йоав бросает родину, если так ее любит?..
— Иногда нужно слетать на Луну, чтобы поближе разглядеть Землю. Чтобы понять Израиль, на него лучше посмотреть издалека, в случае Йоава — из Парижа. Сейчас многие израильтяне уезжают из страны, потому что не согласны с решениями политиков, но часто это связано с естественным желанием что-то изменить в собственной жизни. В литературе и истории встречается образ еврея-скитальца, Агасфера, который существует не только в мифологии, но в какой-то степени и в реальности. Скитания у евреев в крови, а израильское государство еще слишком молодо, чтобы удовлетворять это любопытство. Кстати, меня больше интересуют израильтяне, которые остаются в стране, несмотря на противоречивую политику.
— В чем выражаются эти противоречия?
— Когда я отравился в израильскую армию, а служба у нас обычно длится около трех с половиной лет, мне было 18 лет. Буквально сразу я попал на военную базу на границе с Сирией и Ливаном. Это не было для меня большой неожиданностью, война — неотъемлемый факт израильской жизни, неотъемлемая часть взросления в нашей стране, в особенности мужчин (по некоторым веским причинам девушек могут освобождать от службы). Сознательно или неосознанно нас учат, что быть солдатом лучше, чем поэтом. Мы очень рано узнаем, что важно в этой жизни. А именно: умение бегать, стрелять и быть решительным. Меня к этому готовили с самого детства. Наконец, я пошел на службу и все испытал на собственной шкуре. Но вот служба закончилась, и ты как ни в чем не бывало возвращаешься домой. В нескольких километрах от твоего дома все еще звучат взрывы, а дома начинаются будни. Ты снова встречаешься с друзьями, ходишь на работу, учишься или пишешь роман. Для израильтянина это кажется нормальным, потому что вся страна так живет.
Но я в какой-то момент понял, что, как только мы начинаем принимать необычное в качестве нормы, монстр внутри нас начинает расти.
Коллективное сознание Израиля во многом связано с мужественностью. Что значит быть мужчиной сегодня? Я не социолог, и я позволяю себе некоторую вольность, беря на себя ответственность рассуждать об Израиле в качестве поэта, режиссера, литератора. И я охотно поспорю с теми, кто видит страну по-другому. В этом как раз преимущество Израиля: политика может оставаться радикальной, но никто не лишает тебя права голоса.

Фото: Guy Ferrandis / SBS Films
— Берлинский кинофестиваль особенно приветствует картины, поднимающие насущные политические и социальные вопросы. В этом году фестиваль проходил под лозунгом «Частная жизнь — это политика». Похоже, это как раз про вашу картину?
— Я разочарую вас: меня не особенно интересует политическое кино. Хотя, может быть, в моей картине и имеются некоторые политические идеи, но мне кажется, что в ней все-таки больше жизни, будней, музыки, эмоций и любви. Наши мысли и речи не всегда нужно приравнивать к политическим высказываниям, хотя, может быть, они являются их предпосылками. Современные общества развиваются по странному, противоречивому пути: мы становимся более мобильными и в то же время закрытыми для понимания других; мир охватывает глобализация, в нем исчезают границы, но появляется потребность строить новые стены; все больше рождается детей от смешанных браков — и при этом растет национализм. И все же я не рассказываю о политических предпочтениях героев, они не поддерживают правые или левые движения, а представляют лишь самих себя. Все в картине — личное. Сама ситуация героев — внеполитичная. Когда человек перестает принадлежать к нации, стране, народу, у него отпадает необходимость поддерживать национальные антагонизмы. Само понятие «национальность» звучит для него неправдоподобно. Поэтому, хотя мой фильм и не политический, он побуждает задавать себе политические вопросы.
Отношения моих героев — двух молодых французов и израильтянина — не только показывают разницу, но схожесть их мышления. Сложность сюжета отражается в каждой сцене картины, потому что каждая из них слишком противоречива и может иметь несколько интерпретаций. Я не из тех режиссеров, которые начинают свой рассказ со слов: «На самом деле все очень просто...» Как просто можно объяснить, что такое дом? Страна? Народ? Для каждого человека эти термины могут быть поняты лишь на уровне образного мышления, стать проекцией в его личный внутренний мир. Бегство моего героя в призрачную Францию не имеет ничего общего с современной судьбой сирийского или какого-либо другого беженца. Лично я впоследствии вернулся обратно, в Израиль. Знаете, я понял, почему бывшие граждане часто критикуют свое государство. Человек устроен так странно, что ненависть всегда граничит с внутренней глубокой привязанностью. Объяснить это невозможно, это можно лишь принять.