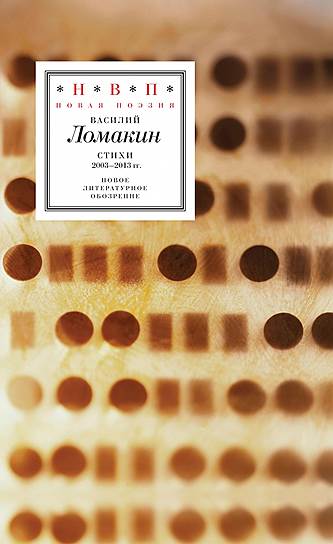Поэзия после человека
Игорь Гулин о новом сборнике Василия Ломакина
Человек, работающий под псевдонимом Василий Ломакин, живет в Вашингтоне. О нем известно не так уж много. Около тридцати лет он пишет и около десяти публикует стихи. Эфемерные, странные и страшные, не-приятные, вызывающие трепет, брезгливость, опаску, требующие усилия, чтобы на них смотреть (читать — будто бы не совсем подходящее слово), прекрасные.
Например, такие: "Я громко говорю: алмазная Maman / Есть нравственный закон на ясном Firmament / И кто сей фирмаман назвали небесами / Устали торговать китайскими трусами / И даже умерли, а в мире смерти нет / И лишь имеется небес неясный цвет".
Почти не вписанный в русскоязычный литературный мир, Ломакин кажется одним из авторов, на которых держится (или, может быть, ломается?) русская поэзия. Не как совокупность практик письма, а как большой культурный проект. В смысле не концептуальном, а, скажем так, духовном. "Стихи 2003-2013" — первая книга, в которой тексты Ломакина собраны в достаточном количестве, чтобы попробовать осознать масштаб этого автора.
На избитый вопрос «возможна ли поэзия после катастрофы?» отвечает всякий пишущий стихи. Уходя от ответа, объявляя вопрос неправильно поставленным, нигилистически говоря «нет». Ломакин — редчайший автор, который отвечает: «Да»
Начиная думать о стихах Ломакина, сразу определяешь их как "поэзию после" ("Последующие тексты" — так называлась небольшая книжка, за которую он два года назад получил Премию Андрея Белого). После конца Родины — серии катастроф, постигших Россию в последний век. Ее последнее значительное звено — 93-й год — постоянно возникает в этих вроде бы отрешенных от политики текстов: "Сто без семи лет / Как? страны нет / Кверху! пойдем, звезда / Пись — и она да / Как — и она нет / Сто без семи лет". После конца русской классической и модернистской поэзии, остающейся для постсоветского человека недоступной чужой культурой. После распада коммуникативной функции языка. После всех возможных концов. После смерти и смертей.
Адорновский Освенцим, в котором у Ломакина Луи Фердинан Целан встречает Пауля Селина,— он тоже тут как тут. На избитый вопрос "возможна ли поэзия после катастрофы?" отвечает всякий пишущий стихи. Уходя от ответа, объявляя вопрос неправильно поставленным, нигилистически говоря "нет", так что письмо выпадает из пространства поэтической этики. Ломакин — редчайший автор, который отвечает: "Да". Вот катастрофа, конец человечества. Вот — поэзия после нее. И говоря это "да", признавая нестерпимый факт смерти, Ломакин внезапно оказывается прямым наследником покойного.
Кажется, нет ни одного автора в современной литературе, для кого русская поэзия была бы настолько своей. Не присвоенным/усвоенным чужим языком. Любимым, отвергаемым, имитируемым, осмеиваемым. Не смешным и страшным чужим трупом, а смешным и страшным своим мертвым телом. Язык Державина, Пушкина, Тютчева, Блока, Мандельштама, Кузмина, Введенского — Ломакин кажется удивительно несамозваным его наследником и может позволить себе писать, например, так:
"Пожалуй расступись, звезда моя, земля / Дай мне прийти в себя, родная / Ни одного удачного Кремля / И даль лесов какая-то смешная // Дай руку мне, и я сейчас умру / Пока другую знаменую / Звездообразную на куполе дыру / Валясь в дыру уже другую".
Этот язык, "...наследная зверей поэзия", достался Ломакину по праву. Но проблема в том, что на нем нельзя больше объясняться и объяснять. Это мертвое наречие, звучащее в некоем объединенном адо-рае. Здесь не говорят, скорее — делают речевыми органами другие действия, связанные обычно со смертью. "Прилепа в меня въета / в мой тварный состав / она щемит немного / перстнями на руках // их можно разорвать / нетварными зубами / и тонкими устами / могилы рассосать".
Вообще-то это слишком простой путь: сказать, что Ломакин фиксирует распад языка русской поэзии, ее финальное отсечение от означивания, от коммуникации, от диалога, от вдохновения (так многие из его поздних стихов написаны при участии компьютерной программы, перемешивающей собственные более ранние тексты поэта). За распадом языка и культуры встает другая, телесная метаморфоза. Будто бы вместе с историей, с последним всполохом ее катастроф, закончилось и само человеческое существо. Оно умирало, но не умерло — скорее мутировало, вросло в свою смерть, образовало с ней какой-то новый симбиотический организм.
"Сейчас / Умру / Себя зовет / Умрет". Это существо уже не может называться "я". Оно — всегда третье лицо, и говорение от него будто бы не допускает лирической позиции. Поэтому стихи Ломакина часто удивительно классицистичны. Они описывают шаткое устройство мира, его зыбкие установления, точнее, конец их, величественную и чудовищную свободу. Но одновременно этот не-я, человек-смерть, может чувствовать. Субъектность, личность, в отличие от языка, не дана ему от начала. Она мучительно добывается вновь на руинах человеческого — сквозь нечеловеческое. "Если у тебя болели рога / ты знаешь, как может болеть сердце". Так, а не наоборот. Эта новая, описанная знакомыми всем словами и никем до того не высказанная боль, заполняет здесь все.
Василий Ломакин. Стихи 2003-2013. М.: Новое литературное обозрение, 2014