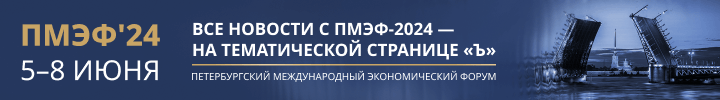Дальнозоркость в тумане
ПМЭФ убедился в светлом будущем при не очень ясном настоящем
Лейтмотив практически всех дискуссий на прошедшем 5–8 июня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — начавшаяся трансформация неопределенности в отношении будущего развития в новое качество. В отличие от 2023 года, контуры основных трендов на несколько лет вперед выглядят более или менее определенными: их можно считать проблемой, их можно считать вызовом или преимуществом, однако выглядят они довольно отчетливо. Но наполнение этих контуров конкретным экономическим содержанием, как правило, еще невозможно.

Общие контуры экономического развития после ПМЭФ-2024 видны существенно лучше, чем их непосредственное экономическое наполнение
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Общие контуры экономического развития после ПМЭФ-2024 видны существенно лучше, чем их непосредственное экономическое наполнение
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Настроения на главном экономическом федеральном форуме РФ — проводимом фондом «Росконгресс» в Санкт-Петербурге ПМЭФ — уже много лет задают основные ориентиры для кратко- и среднесрочных прогнозов развития российской экономики. Однако ПМЭФ не столько индикатор экономических перспектив как таковых (ни на одном из петербургских форумов, по сути, никогда не предсказывались случившиеся затем экономические и политические кризисы, системные и шоковые спады, собственно будущие события в экономике), сколько индикатор самого неуловимого, но тем не менее важного в экономическом развитии — настроений экономических игроков. Форум в Санкт-Петербурге за много лет эволюции его дизайна идеально приспособлен под эти цели.
Это и архитектура его деловой программы (теперь уже выглядящая непомерно огромной сеть профильных панельных дискуссий, круглых столов, конференций), и условия для нетворкинга самого разного рода (с ослаблением потоков въездного и выездного туризма РФ Санкт-Петербург окончательно стал столицей внутреннего российского туризма, и в 2024 году любому наблюдателю очевидно, что в ближайшие годы город гарантированно получит очень большие доходы от развития этого сектора экономики, несколько притормозившегося с 2020-го), и неформально-развлекательная часть («вечеринки» ПМЭФ неоценимы с точки зрения того, какие именно настроения на них преобладают, и 2024 год показал этими площадками, что очевидная депрессия 2023-го, хорошо это или плохо, но преодолена). Совпадает с этим и общая конструкция форума, которую Сергей Караганов, модератор ключевого мероприятия ПМЭФ — панельной сессии с участием президента, открыто охарактеризовал как «авторитарный социальный капитализм».
Выступление главы российского государства уже много лет является, по существу, докладом, обобщающим все внутренние обсуждения в российской власти за последний год (как правило, с обратной перспективой на два-три года назад и со среднесрочным горизонтом планирования) и, в сущности, все состоявшиеся непосредственные обсуждения ПМЭФ в предыдущие дни. Конечно, этот доклад обязан быть оптимистичным, однако нюансы настроений в нем также дают возможность судить о том, какие настроения — самые неуловимые составляющие в социально-экономическом развитии — определяют текущее положение вещей и будут в основном определять картину следующего года.
В этом отношении форум в Санкт-Петербурге в нынешнем июне был исключительно достоверным отражением того, как выглядит и текущее состояние российской экономики на второй год после начала военной операции РФ на Украине в 2022 году, и перспективы социально-экономического развития на среднесрочном горизонте. Хотя некоторая определенность уже была и в 2023-м, именно сейчас пространство, определяющее возможные вариации, уже с достаточной ясностью ограничено, возможное и невозможное более или менее известно в основных аспектах.
Так, если говорить в самых общих чертах, стали достаточно понятны перспективы общеэкономического роста.
Конечно, возможно отнести рекордную динамику ВВП в 2022–2023 годах только к загрузке военными отраслей, связанных с поставками в ВПК, а остальное отнести к успехам строительной отрасли, загруженной новой субсидированной ипотекой. Можно приплюсовать к этому новому росту и отдаленные последствия спада спроса в пандемию COVID-19 в предыдущие годы.
Но чем дальше, тем более понятно, что наблюдаемая картина перегрева в экономике РФ, сопровождающаяся и ростом реальных (при высокой инфляции и очень высокой, 16%, ключевой ставке ЦБ) располагаемых доходов населения, наращивающего сбережения, и крупными частными инвестициями в том числе в покупку, трансформацию и развитие активов западных компаний, ушедших из РФ с началом военной операции,— это не случайная флуктуация роста, за которым последуют быстрый спад, депрессия или катастрофа, а тренд, видимо, на несколько лет вперед. Да, потолок этого роста существует, он располагается весьма низко, экономический рост по-прежнему зависит от многих довольно волатильных компонент, однако то, что до 2026–2027 годов он будет ориентировочно таким же, как в 2023–2024-м, уже практически никто не оспаривает.
Полностью оставить в стороне тот факт, что полноценно механизмы этого роста пока не описаны, невозможно — это, в частности, показала главная макроэкономическая панельная сессия ПМЭФ 6 июня, модерировавшаяся председателем бюджетно-налогового комитета Госдумы Андреем Макаровым. Как и обычно, на сессии выступали ключевые «макрорегуляторы» экономики РФ: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономики Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Летом текущего года, в отличие от лета 2023-го, уже никто не ждал, что на такой сессии будет обсуждаться милитаризационная мобилизация экономики РФ — вопрос о том, будет ли вообще такая задача поставлена политическими властями перед правительством РФ, был де-факто решен в прошлом году: несмотря на все усилия сторонников этого подхода к решению всех проблем страны, этого, по существу, не случилось.
Перспективы развития до 2030 года четыре ключевых госэкономиста обсуждали в очень схожем и решительно несенсационном ключе.
Но вполне ожидаемого разговора — собственно, почему все это растет и что из этого следует на горизонте года-двух для текущей экономической политики — вообще не состоялось.
Это редкий случай, когда то, что будет происходить с экономическим развитием в течение пяти лет, выглядит определенно яснее, чем в течение года. Резюме дискуссии: если не делать никаких резких телодвижений, все будет так же, как в 2024 году. Изменение ставки налога на корпоративную прибыль с 20% до 25% с 2025 года в принципе на грани такой резкости — впрочем, скорее всего, Белый дом рассматривает это действие как продленный на годы вперед windfall tax против вполне определенного прогноза повышенных прибылей в течение следующих пяти лет. Введение умеренно прогрессивного НДФЛ против плоской его шкалы со следующего года важно скорее символически, чем макроэкономически. В остальном же ничего принципиально нового происходить не должно.
Казалось бы, как же так? Неужели столь радикальные изменения хотя бы в условиях внешней торговли РФ, традиционно очень вовлеченной в систему международной торговли, беспрецедентное санкционное давление на экономику страны, в той или иной степени окончательная смена собственников как минимум 10% промышленных активов в стране, не говоря уже о безработице в 2,6% (показатель немыслимый для любого года существования рыночной экономики в РФ, при этом, заметим, хотя обеспечение полной занятости в экономике никогда не было вменено никакому государственному органу, желательность отсутствия значимой безработицы всегда была приоритетом для правительства страны), вообще ничего не меняют, а только идут на пользу росту ВВП и зарплат? В целом ответ на никем не задаваемый на ПМЭФ, но явно подразумевающийся многими вопрос «А это получается в России случайно или является следствием заранее принятых и реализованных властью планов развития?» было бы очень интересно услышать. Но вряд ли этот ответ существует: это не совсем ясно.
А точнее, в том, что текущий результат достигнут в результате реально реализующихся планов 2020–2023 годов, вовсе не все уверены. Может, и так. А вдруг это не так?
Да, конечно, подавляющее большинство сомнений в некатастрофическом сценарии экономического развития РФ с 2022 года основывалось на неопределенности эффекта для экономики со стороны санкций. Здесь 2023 год отличается от 2024-го радикально: в 2023-м, и это ПМЭФ этого года продемонстрировал очень отчетливо, еще неясны были пределы санкционного давления, но в 2024 году эти пределы уже очевидны. Санкции конечны по своему влиянию даже в варианте полного торгового эмбарго со стороны стран G7 (почему это, видимо, так — см. материал «Столица мультиполярности»), которое вряд ли реализуемо даже Евросоюзом, и их влияние на развитие экономики РФ в ближайшее пятилетие даже в радикальном варианте не будет определяющим, хотя на более длительных горизонтах они более важны.
Но в этом году на ПМЭФ в основном были люди, более или менее точно узнавшие, что санкции не ставят крест на их среднесрочных планах. В ряде случаев — наоборот, в большинстве случаев они не слишком релевантны. Основные перспективы для бизнес-проектов РФ открыли период новой стабилизации экономики в 2015–2019 годах и накопленный тогда потенциал развития, а с тех пор внутренний рынок стал на следующие годы приоритетом для всех.
Хотя экспорт для экономики России был и остается вопросом номер один во всех смыслах, ПМЭФ в 2024 году перестал быть экономическим форумом крупных экспортеров и их клиентов за пределами РФ.
В этом смысле очень показательна примечательно низкая активность в Санкт-Петербурге в этом году представителей китайской экономики: им, в сущности, нечего решать с русскими — основные вопросы обговорены, основные переговоры уже идут, китайские премиальные автомобили составляют основу автопарка ПМЭФ, так зачем беспокоиться? С российским экспортом в КНР и так все будет в порядке. Вот внутренний рынок России... Но, в сущности, это дело самой российской экономики.
И здесь контраст между определенностью общих среднесрочных контуров и неопределенностью частных предпринимательских перспектив в Санкт-Петербурге в июне нынешнего года побивал все рекорды. С одной стороны, в атмосфере показательного торжества российского виноделия на ПМЭФ мало кто сомневается, что дальнейшее пятилетнее развитие собственного проекта, будь то энергетика, финансовая сфера, IT, логистика, медицина, да хотя бы и социальные НКО, никаких особых препятствий не встречает.
С другой — как это все может выглядеть в виде конкретного, детализированного проекта с графиком на эти самые пять лет, на ПМЭФ мало кто рассказывал, а если и рассказывал, то доля смутного недоверия к таким рассказам была всеобщей.
На словах все более или менее очевидно: совокупности расширяющегося внутреннего спроса, очень прочных госфинансов, устойчивой для практически любых потрясений денежно-кредитной политики и вполне внятно работающих рынков достаточно для того, чтобы работать.
Единственная существенная пока проблема — человеческие ресурсы (см. материал «Хватит ли здоровья»), и с ее решением пока однозначности нет, однако в этом смысле Россия с ее относительно большим накопленным человеческим капиталом (и по-прежнему раздутым окологосударственным сектором) — страна, способная в более долгосрочной перспективе на многое, особенно в альянсе со странами быстро расширяющегося БРИКС, где недостающие трудовые ресурсы точно есть. Пока же будущее гарантированно. Но почему-то одновременно очень расплывчато и неконкретизированно — и это главный результат форума в Санкт-Петербурге. Все будет более или менее хорошо или по крайней мере приемлемо — но как?
Не дает ответа. Говорит: там будет видно. Может быть, это и есть единственный адекватный ответ на обстоятельства, остающиеся чрезвычайными: слепой и нерассуждающий энтузиазм в них всегда будет ошибкой.