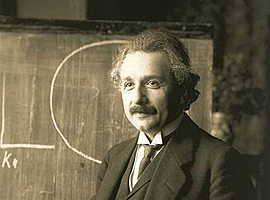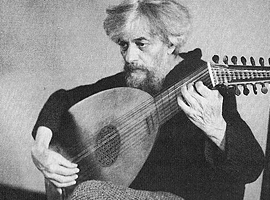Бунт-зрелище
Михаил Трофименков о парижской революция 1968-го
в зеркале своих революций

"Барбара явилась к родителям с длинноволосым юнцом и попросила: "Мама, разреши мне провести ночь в Латинском квартале — там баррикады". Ей семнадцать. Милая девочка специально зашла домой, зная, что родители волнуются. Родители восхитительно выкрутились — сказали, что еще не ужинали, и отвели молодых людей в ресторан. Барбара, чистая душа, ответила: "Как можно идти в ресторан, когда мои товарищи на улице и т.д." Родители убедили мальчика переночевать у них. З. рассказывает мне это по телефону, понизив голос. Мальчик спит в гостиной. Оба ребенка измотаны и перевозбуждены".
Будь это сцена из фильма, авторов уличили бы в буржуазной сентиментальности. Но это "показания" канадской писательницы Мейвис Галлант, непредубежденного свидетеля парижского бунта мая 1968 года. Трогательно-водевильная коллизия уживается в ее дневнике со слухами о трупах, которые жандармы, заметая следы, топят в Сене, фактами избиений раненых студентов на носилках и неистребимым привкусом слезоточивого газа.
"Латинские кварталы" пылали в тот год повсюду. Кажется, никто — от Токио до Варшавы — вообще не сдавал сессии: университеты совместными усилиями парализовали студенты, их захватывавшие, и полиция, оттуда их выбивавшая. Председатель Мао, повелевший хунвейбинам открыть "огонь по штабам", и классик социологии Герберт Маркузе, сошлись на том, что революционность отныне — не классовый, а возрастной атрибут.

Вообще-то кампусы США бурлили уже восьмой год, как восьмой год громыхали по мостовым башмаки спаянных железной дисциплиной радикалов "Дзэнкагурэн", прятавших лица (японское ноу-хау) за марлевыми масками. Уже справили шутовские похороны своего движения голландские "прово", требовавшие раздать амстердамцам 20 000 белых велосипедов. Необратимый переход от протеста к террору уже обозначила в июне 1967-го Гудрун Энслин, бросив "родителям" на похоронах убитого полицией берлинского студента: "Вы все — поколение Освенцима".
В 1968-м очаги возгорания слились во всемирный костер "молодежной революции". В январе пал Римский университет. Начиная с февраля бои в кампусах и гетто США смахивали на гражданскую войну. Рвануло в Бельгии, Алжире, Португалии. Весной — в Польше, Великобритании, Бразилии, Испании, Швеции, Сенегале. Берлин запылал в апреле, когда неонацист тяжело ранил вожака студентов Руди Дучке. Летом "накрыло" Югославию, Турцию, Швейцарию, Канаду, Уругвай, Аргентину, Мексику, Австралию. Осенью — Ямайку, Египет, Финляндию, Грецию.
Но витриной революции — без всяких на то оснований — был и остается Париж.
Возможно, мир потрясла "неуместность" горящих баррикад в сердце "ах, Парижа". Да ладно, Париж и не такое видал. В 1958-м он сплотился против путчистов, грозивших десантом парашютистов. В 1961-м аккуратно не заметил, как полиция забила на улицах насмерть 200 алжирцев. Стены кафе помнили пули и осколки, пятнавшие их при разборках фракций алжирского подполья и покушениях ОАС. В общем, никогда такого не было — и вот опять: Галлант фиксирует всеобщее предчувствие гражданской войны.
Изумляет ничтожность искры, из которой разгорелось такое пламя. В США беспорядки катализировали убийства: трех негров-студентов в Южной Каролине, Мартина Лютера Кинга, Роберта Кеннеди. В Бразилии — террор хунты, в Греции — смерть лидера оппозиции режиму "черных полковников". В Японии — конфискация крестьянских наделов под будущий аэропорт Нарита. На Ямайке — высылка популярного профессора, в Польше — запрет спектакля по национальному достоянию — "Дзядам" Мицкевича: тоже повод. И повсеместно людей выводили на улицы ужас и гнев, вызванные войной во Вьетнаме. В конце января, в ходе "новогоднего наступления", партизаны едва не взяли штурмом американское посольство в Сайгоне, вскоре мир потрясла садистская резня, устроенная в марте лейтенантом Келли в деревне Сонгми.
Во Франции поводом стала какая-то чепуха. Первые стычки (февраль) произошли из-за увольнения директора Синематеки, вскоре восстановленного. Университетская заваруха началась (март) с требования студентов Нантера свободно пускать мальчиков в девичьи дортуары.
Можно назвать это бунтом против патриархального общества. Не считать же программой революции граффити: "Запрещается запрещать", "Вся власть — воображению". Студентам хотелось "чего-то иного", они скучали и ощущали себя левыми, но смутно левыми. Маоистским, троцкистским и геваристским жаргоном владели немногие "сектанты", собачившиеся между собой и не способные что-либо возглавить.
Главные события разыгрались на бульваре Сен-Мишель и вокруг него. Леваки не совались дальше пассажа Сен-Жермен: там начинались угодья ультраправых студентов, парней серьезных — не чета полицейским, старавшимся никого не убить. Ограниченность масштабов компенсировала оргия "спецэффектов". Буржуа, наблюдавшие из окон, воображали революцию именно так: град камней, клубы газа, пылающие автомобили, выломанные решетки Люксембургского сада, невинные девы в объятиях лохматых анархистов и грязь, "как на Каирском базаре". Неудивительно, революцию-то устраивали их собственные дети, унаследовавшие ее образ от пап и мам.
Не случайно Пазолини, страстный коммунист, католик и гомосексуал, категорически презирал "маменькиных сынков", атакующих полицейских — выходцев из самой что ни на есть гущи народной.
Когда дым рассеялся, все "актеры" были живы, отчасти здоровы и вернулись в аудитории. Но мы-то знаем: революция — это другое. Это когда активное меньшинство кропотливо обращает большинство в свою веру и выводит на баррикады. Во Франции все наоборот. Большинство вдруг ринулось в драку, а уже после драки выделилось активное меньшинство, еще лет десять экспериментировавшее с коммунами, политическим творчеством масс, гашишем-героином и чуть-чуть — терроризмом.
А как же зловеще-загадочное исчезновение де Голля, улетевшего в штаб оккупационных войск в ФРГ договариваться о танковом броске на Париж? Как же национальный коллапс — не работали ни магазины, ни банки, ни бензоколонки?
Ну не студентов же боялся президент-генерал! И бронетанковый замысел, и коллапс — следствия беспрецедентной всеобщей стачки, да, начавшейся в знак солидарности со студентами: 10 млн забастовщиков, красные флаги над захваченными заводами. Чудесным образом, о забастовке, которую "слили" коммунистические профсоюзы, не вспоминают. Забылась и настоящая, трагическая студенческая революция в Мексике, выдвинувшая социально-политическую программу. Опасаясь, что студенты сорвут Олимпиаду, власти за 10 дней до ее открытия просто выкосили пулеметами сотни студентов в центре Мехико.
Как стачку и кровь застили "танцы" на баррикадах Сен-Мишеля, так и эффектный срыв Каннского МКФ видными революционерами Полански и Лелушем застил многолетнюю борьбу за Венецианский фестиваль. Ведущие итальянские киномастера (то есть коммунисты), бойкотируя его реакционное руководство, добились в 1973-м закрытия фестиваля на два года и реформирования его. А Канны — что? Отряхнулись и пошли дальше.

Спецслужбы в нелепость революции поверить не могли и искали ее дирижера. Само собой, за кордоном. Соседка поведала Галлант, что муж-полицейский шепнул ей: баррикады удерживают никакие не студенты, а ражие североафриканцы. "Что-то мне говорит, что все свалят на иностранцев — я имею в виду новый пролетариат — испанцев, португальцев. И, само собой, на арабов, достается всегда арабам".
Контрразведка пришла к выводу: бунт устроили неуловимые агенты "Триконтиненталя" — гаванского "Конгресса трех континентов", создавшего в январе 1966-го из революционных движений 82 стран Организацию солидарности народов стран Азии, Африки и Латинской Америки. Не менее половины из этих движений уже вели или готовили вооруженную борьбу. Европейские городские партизаны 1970-х действительно считали себя авангардом "третьего мира". Но символическое поражение новая мировая революция уже потерпела с гибелью Че Гевары в октябре 1967-го. А к примеру, Пьер Гольдман, натуральный агент Гаваны, ждавший сигнала, чтобы присоединиться к партизанам Венесуэлы, сказал как отрезал про майский бунт: "Мастурбация, онанизм, кастрация".
На роль оккультного гения-кукловода примеряли Ги Дебора, философа, режиссера, вождя загадочного "Ситуационистского интернационала" художников. Его книга "Общество зрелищ" (1967) открывалась пророческими словами:
"Вся жизнь общества, в котором господствуют современные условия производства, проявляется как огромная аккумуляция ЗРЕЛИЩ. Все, что раньше переживалось напрямую, удалилось в репрезентацию". Новая реальность, по Дебору,— это "псевдомир", "доступный лишь разглядыванию".
Вот он — догадались пикейные жилеты — и натравил студентов на неототалитарное "общество зрелищ". Но страшная тайна мая заключалась в том, что, по Дебору, "лгун солгал самому себе".
Это был не бунт против общества зрелищ, а звонкий бунт-зрелище, тем более бессмысленный, чем милосерднее он протекал. Первая в истории революция, которой не было.
Приобретения
Радикальная либерализация — к середине 1970-х — сексуальных практик, в частности декриминализация гомосексуализма и абортов.
Расцвет гражданских инициатив и движений, самое знаменитое из которых "Врачи без границ".
Декоративная мода на "третий мир" в его революционной и мистической ипостасях.
Социальный слой "икорных левых" (в ФРГ — "шили", или "шикарные левые"), гламурных марксистов: после избрания Миттерана президентом (1981) они составят новую политическую элиту.
Потери
Франция лишилась лучшего в своей истории президента. Де Голль обещал уйти в отставку, если проиграет референдум по второстепенному административному вопросу, и сдержал свое слово (28 апреля 1969-го).
Студенческие протесты завершились университетскими реформами, которые привели к постепенной утрате "патриархального" и "тоталитарного" — то есть систематического и классического высшего образования.
Париж лишился старых деревьев на бульваре Сен-Мишель, срубленных студентами.
Французская культура лишилась Жан-Луи Барро на посту руководителя театра "Одеон". Изгнанный оттуда студентами, он затем был уволен министром культуры как их сообщник.
Французская политическая жизнь лишилась полувекового авторитета коммунистической партии.