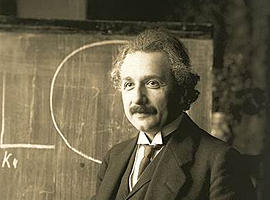Чтение звука
Сергей Ходнев о революции музыкальных аутентистов
в зеркале своих революций

Представьте себе альтернативную вселенную, где есть вполне сложившийся литературный канон, довольно узкий, однако с вполне приличными авторами — Данте, Шекспир, Бальзак и, скажем, Томас Манн. Только читать их все вынуждены в переводе и только в переводе. Причем переводы хорошие, местами даже поразительно талантливые, но никто не понимает, что это не переводы, а авторизованные переложения: "устаревшие" выражения вымараны, фразы то длиннее, то короче оригинальных, терцины сбиваются на катрены, а сюжет хоть и сохранен, но образность переделана в соответствии с представлениями переводчика.
А потом вдруг является некое "общество исторически информированного чтения". Которое, роясь в грамматиках, начинает выдавать тщательно сделанные подстрочники. И консерваторы пожимают плечами: неужели и так не понятно, о чем "Ромео и Джульетта"? А энтузиасты потихоньку входят во вкус: слушайте, а ведь этот вот нерифмованный ямб у Шекспира правда воспринимается совсем иначе, а мы-то привыкли его читать александрийскими стихами! А "ревность — чудовище с зелеными глазами" — как сказано, а?
Аутентизм настаивал, что музыка никогда не рождалась некоей вневременной сущностью. Что сами ноты представляют собой только вид, который еще нужно правильно прочесть
Академическая музыка для массовой аудитории конца XIX века была строго организованной чередой всеми признанных вех. Каждое новое поколение композиторов вносило что-то новое, причем эти новации часто встречались в штыки педантами и филистерами, но потом все как-то складывалось; а затем обыкновенно и новаторы в какой-то момент оказывались теми отцами, которых вытесняло со сцены следующее поколение, настроенное когда более, когда менее уважительно. И все это мыслилось как неумолимый, но в конечном смысле безукоризненно справедливый естественный отбор, в результате которого складывался канон музыкального искусства.
Тех, кто показался (ключевое слово) недостаточно состоятельным в художественном смысле для того, чтобы предстать гением на все времена, оттесняли на обочину, в сочинения по истории музыкальной литературы — но и хорошо, и правильно. Зачем нам, скажем, Телеман, Фукс и Граун, если у нас уже есть Бах? И совершенно незачем нам знать, на чем и как играли музыканты баховских времен, если у нас есть наши современные инструменты, прекрасно подходящие для наших многолюдных концертных залов, и музыканты, прекрасно выпестованные консерваториями новейшего образца.
Этому можно было противопоставить очередные новации — и в них не было недостатка; сложность в том, что и они по сути-то были игрой по этим готовым правилам. Но можно было, как оказалось, зайти с другой стороны. Вы боготворите гениев прошлого? Отлично, но вы уверены, что вы их понимаете? Ведь потребление музыки — не то, что потребление искусства хотя бы и старых мастеров; здесь нужен посредник в виде исполнителя, который, правда, может составлять со слушателем одно и то же лицо. Но до появления аутентизма критерий при этом был только один — хорошо играет этот самый исполнитель или плохо.
А потом вдруг выяснилась фантасмагорическая вещь: можно быть хорошим, талантливым, успешным музыкантом и притом играть либо "правильно", либо "неправильно". Либо вооружившись знанием об эпохе, биографии, эстетическом контексте, либо от ветра главы своея. Причем тяга к старине, в том числе и старине музыкальной,— это одно, а сама предлагаемая энтузиастами жильных струн и низкого строя практика — немножко другое; она не с тем была заведена, чтобы пощекотать нервы слушателя, и не для того только, чтобы открыть неизвестный ему огромный пласт искусства, а чтобы крикнуть во весь голос: вы не так слушаете музыку, ваши представления о ней — произвольно сложившийся консенсус. Следуя которому, вы пропускаете массу бесценных художественных ощущений.
Начало, правда, было не во весь голос. В 1915 году Арнольд Долмеч — изготовитель клавесинов, блокфлейт и виол да гамба, влюбленный в ветхие и малоизвестные партитуры,— выпустил в Лондоне фундаментальный труд "Интерпретация музыки XVII-XVIII веков по свидетельствам современников". В этом же году умер Скрябин, и вообще в контексте мировой войны, футуризма, кубизма, нарождающейся додекафонии и проч. книга Долмеча кажется тихой и застенчивой ученой блажью.
Но вышло так, что сейчас это визионерство Скрябина и дерзания футуристов воспринимаются как академический факт, граничащий с областью "отвлеченного и подчас диковинного". В то время как дело Долмеча и его единомышленников выросло в исправно работающую индустрию планетарного масштаба — а заодно бесповоротно перенастроило в нашем восприятии музыки как таковой очень и очень многое.
Тут легко сказать, что вся эта столетней давности любовь к XVIII столетию — просто дитя fin de siecle. Сначала, еще глубоко в XIX веке, буржуазия полюбила завитушки рококо, потом явились Гонкуры, Верлен, Анри де Ренье, и пора "старого режима" внезапно стала казаться и в эстетическом, и в психологическом смысле необычайно актуальной. А Бердслей, а Сомов, а Кузмин? А парижская Schola Cantorum, которая и вовсе в 1890-е начала пропагандировать старинную музыку? А Рихард Штраус с его тяжеловесными грезами о Вене времен Марии-Терезии? Ведь все это — одно поветрие, тем и симпатичное, что оно кажется колоритной приметой своего собственного времени. Тем более что как раз в неспокойные годы людей к пассеизму и тянуло. Карсавина, танцующая под музыку Куперена в "Бродячей собаке", где по такому случаю душно от свечей, горящих в старинных канделябрах, и от запаха живых роз, свитых в увядающие гирлянды,— это очень типичный 1914 год. Парики и мушки, лютни и клавесины — безопасная оранжерейная территория, куда так хочется убежать от надвигающегося ужаса. Вот и Шенберг в 1933-м внезапно вчитывается в Генделя и, препарируя его кончерто гроссо соч. 6, N 7, создает свой Концерт для струнного квартета с оркестром.
Но в этой практике, через некоторое время ставшей именовать себя "аутентизмом", а более недавно — "исторически информированным исполнительством" (historically informed performance, HIP), с самого начала был элемент сияющего позитивизма и сциентизма — даром что она была устремлена к прошлому. Восстание против общепринятого порядка вещей объяснялось тем, что глубина нашего знания и наша открытость ему стали другими.
По-настоящему расцвел этот исполнительский историзм все-таки только после Второй мировой; он — молочный брат авангарда. (И неслучайно, например, соответствующий факультет Московской консерватории называется ФИСИИ — Факультет исторического и современного исполнительского искусства.) Его первые герои 60-70-х — сплошь бунтари, в самой его патетике очень много левого, протестного содержания. Но, пожалуй, это единственный случай, когда явная контркультура строилась на тончайшей исследовательской культурности, когда любой иконоборческий жест можно было обосновать не словами "я так вижу", а кипой ссылок на старинные трактаты. И старинные инструменты — вещь колоритная, несомненный аттракцион, и вся эта ученая исполнительская алхимия обычно производит впечатление на публику. Вы привыкли представлять Генделя или Вивальди так-то и так-то — но вот вам программно неожиданный Гендель и неожиданный Вивальди. Вы привыкли думать, что от неизвестных и прочно забытых авторов нечего ждать интересной музыки — но вот вам потрясающие опусы композиторов, которых не знают даже и специалисты.
Но важнее другое. Аутентизм настаивал, что музыка (прежде всего музыка старинных композиторов) никогда не рождалась, как Афина из головы Зевса, некоей вневременной сущностью во всеоружии. Что сами ноты, как ни странно, говорят о ней еще не все, и вообще представляют собой только код, который еще нужно правильно прочесть. Что мы обязаны поинтересоваться: для какого контекста она создавалась — для церкви, для дворцовой залы, для театра? Не упускаем ли мы в этом контексте важных эстетических и акустических обстоятельств? И что нельзя играть Монтеверди как Баха, а Баха как Бетховена. Более того, и Бетховена нельзя играть, как мы привыкли: особенно много шуму в свое время наделали эксперименты даже не с барочной музыкой, а именно с бетховенскими симфониями, сыгранными без жирного романтического лоска, маленькими составами, так, как они могли звучать на премьере. С другой стороны — даже если у нас остался только смутный очерк произведения, мы все равно будем пытаться при случае его воссоздать, как палеонтологи по косточке воссоздают динозавра.
В исторически информированном исполнительстве с самого начала был элемент сияющего позитивизма и сциентизма. Восстание против общепринятого порядка вещей объяснялось тем, что глубина нашего знания и наша открытость ему стали другим
Исполнительский историзм примерял на себя форму и даже дух многих культурных явлений ХХ века. Вместе с совестливыми философами 50-х задавался вопросом, возможно ли и теперь как ни в чем не бывало слушать Бетховена и Вагнера, и утверждал, что не в меру торжественному пантеону нужно найти замену. Вместе с бунтующими студентами 60-х выступал против засилья догматичных и буржуазных филистеров. Минимализм — ну тут все ясно, достаточно только послушать Майкла Наймана. Нью-эйдж, хиппи, world music — все это тоже на свой лад отразилось в аутентистских практиках и модах, как и последние, в свою очередь, отражались при случае в прогрессивном роке. А сегодня кажется, что он на 100% соответствует духу именно нашего времени, когда самое ценное, к чему тянется постиндустриальный мир,— это ручная работа, фермерские продукты, штучность и органичность. И современному слушателю, конечно, очень приятно, когда посреди всеобщей "цифры" и виртуальности ему представляют раритет тщательной выделки.
С одной стороны, в постмодернистское сознание аутентизм вписался как по мерке, с другой — так и остался в основе своей явлением на самом деле модернистским. Ему часто ставят в вину догматизм и безапелляционность, но на самом деле следствием его появления был как раз интерпретаторский плюрализм, утвердившийся в академической музыке раз и навсегда. Великие голоса со старых прекрасных пластинок не станут менее великими от того, что Эрих Кляйбер или Карл Бем играли Моцарта не на жильных струнах. Но аутентистские приемы и в академическом лагере многих побудили к поискам и экспериментам (причем с поразительными результатами — достаточно только вспомнить эволюцию покойного Клаудио Аббадо).
Ради которых, собственно, все и затевалось. Наука наукой, но даже если пройтись по верхам, "исторически информированные" записи 1980-х отличаются от интерпретаций 1990-х, а те отличаются от нынешних — и это при одних и тех же исследовательских, общехудожественных и методологических постулатах. Вспоминается, как Ричард Тарускин уже не одно десятилетие назад пытался изничтожить аутентизм, для чего, ломясь в открытую дверь, доказывал: они, мол, только притворяются сплошными воссоздателями прошлого, на самом деле это искусство современное, и современностью вскормленное. Как пишут в интернете, "вы так говорите, как будто это что-то плохое".
Приобретения
Открытие для массового, непрофессионального слушателя невообразимо огромного пласта музыки — от Средневековья до классицизма.
Наглядный прорыв в научном и практическом осмыслении того, как функционировала и как создавалась доклассическая музыка.
Влияние "старинной" эстетики не только на новую академическую музыку, но и на рок- и поп-эстраду.
Принципиально новое и непривычное звучание даже заигранных шлягеров, скажем, Баха или Моцарта, которое облегчает слушательский контакт с ними.
Плюрализм интерпретаций и отказ от единого нормативного исполнительского языка.
Потери
Крушение общепризнанного репертуара классической музыки с ясной и уютной системой приоритетов.
Подмена интенсивности экстенсивностью: зачем пытаться гениально сыграть "Лунную сонату", если заурядное исполнение на молоточковом клавире сонаты неизвестного бетховенского современника публику развлечет вернее.
Музыкантское сословие утратило единство — заядлые "академисты" и "аутентисты" до сих пор смотрят друг на друга свысока, а совмещать обе практики получается не у всех.
Скомпрометированность сложившейся к ХХ веку системы общедоступного музыкального образования: даже с самым престижным консерваторским дипломом бывает нужно переучиваться ради "барочной" карьеры.
Удобные и практичные новации XIX-ХХ веков (стальные струны, вентильные и клапанные механизмы) отвергнуты в пользу капризной и ненадежной архаики.