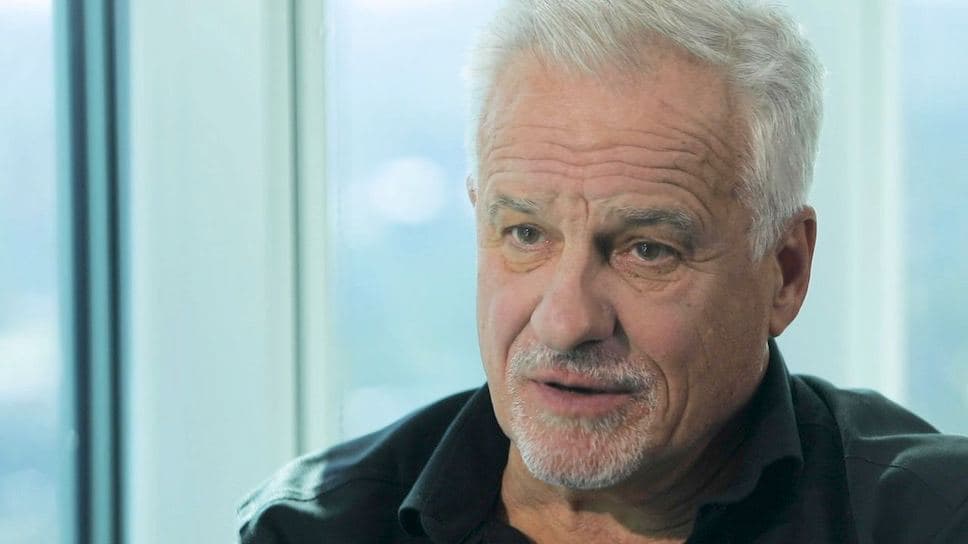Анатолий Чубайс: «Я известный либеральный империалист»
Спецпредставитель президента о своей ненависти к советской власти, отличии российских реформ от китайских и поддержке идей Греты Тунберг
Смотрите видео или читайте текстовую версию интервью.
— В одном из интервью вы говорите: «Я ненавижу советскую власть. Более того, я мало что в жизни ненавижу так, как советскую власть. И особенно ее позднюю стадию. В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось». Откуда и почему такая страсть? Оценка понятна, но вот страсть?
— У нас довольно часто, особенно в последнее время, возникает такая позиция у части интеллигенции, что мы скатились уже к советской власти, все то же самое. Это могут говорить только люди, которые не понимают, что такое советская власть. Так получилось, что период, когда я как-то становился самостоятельным человеком, пришелся на позднюю советскую власть. 18 лет брежневского застоя, потом «гонка на катафалках»…
Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено.
— Такая игра.
— Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что еще привести в пример,— это все вранье. Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение.
— Скажите, пожалуйста, а вот как ваш папа относился к вашей такой революционной деятельности? Ваш папа прошел войну, дошел до Берлина, был политработником, преподавал марксизм-ленинизм и застал первые десятилетия новой России. У вас возникали с ним конфликты на этой почве?
— Ну, значительная часть моего… как бы это сказать… интеллектуального образования, извиняюсь за пафос, была получена в ходе тяжелых баталий, которые были между моим старшим братом и моим отцом. Это такие ежедневные многочасовые дискуссии за советскую власть и против советской власти. Я вольно-невольно, хотя мне было очень интересно, следил за аргументами, позицией и так далее. Отец был искренним. То, что для меня было враньем, для него было нормальной жизнью. Это, может быть, трудно сегодня понять, но вот благодаря тому, что вы упомянули, что он прошел войну с 22 июня 1941-го до 9 мая 1945-го, именно это с другой точки дает возможность понимать то, что происходит в стране.
— Образование войной делало их другими.
— Ну, конечно! И в этом смысле у меня, с одной стороны, было, безусловно, уважение к отцу, а с другой стороны, я все больше и больше понимал, что я не согласен…
— А как он относился к тому, что вы стали частью власти?
— Мне кажется, что для него это скорее было если не предметом гордости, то по крайней мере такой точкой уважения.
— А вот ваш ленинградский кружок молодых экономистов, где вы обсуждали рыночные реформы. Интуитивно двигались к рынку. Когда я об этом читаю, у меня возникает вопрос совершенно боковой, а почему вас не перехватило КГБ? Ведь это для них была такая цель существенная.
— Это было вполне серьезной такой темой, вполне взрослой угрозой на всех этапах нашего существования. Мы это прекрасно понимали и поэтому предпринимали целую систему усилий. За безопасность отвечал я, это была моя работа. И за то, чтобы не сел никто из нас, отвечал я. И это целая система мер, которая нами осознанно предпринималась.
— А что это за система мер была?
— Ну, это…
— Проверка тех, кто участвует?
— Ну какие мы могли провести проверки? Откуда? У нас же нет своей спецслужбы. Проверка была на уровне интеллектуальном, мы выбирали просто людей. Сначала было четыре человека. Чтобы из четырех человек сделать восемь человек, потребовался год для перебора всего того, что существует на экономическом факультете Ленинградского университета, в Финансово-экономическом институте, в Политехническом институте на экономическом факультете. И где-то в богом забытом Ленинградском институте советской торговли мы обнаружили старшего преподавателя Игнатьева Сергея Михайловича, с которым мы на одном языке говорим совсем. Того самого Игнатьева…
— …который позже стал главой Центробанка.

Свой путь к рыночной экономике Анатолий Чубайс и Сергей Игнатьев начинали в одном ленинградском кружке молодых экономистов. Позже им пришлось вместе на практике строить рыночную экономику: Чубайсу — первым вице-премьером, а Игнатьеву — главой Центробанка
Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ
— Да (случались.— “Ъ”), какие-то забавные истории, когда на одном из наших семинаров… У нас товарищ есть Миша Дмитриев, который был стенографом, он вел стенограмму. Семинар прошел. Все нормально.
— Тоже очень известный человек сейчас.
— Да. После чего Миша прибегает испуганный: «Вызывает КГБ.— Что случилось? — Хотят, чтобы я рассказал содержание того, что мы обсуждали.— У тебя стенограмма есть? — Есть».
Разбирались, разбирались, выясняем. Оказывается, стенографист, чего я не знал, пишет так, что расшифровать может это только он сам. Соответственно, мы с Мишей просидели несколько часов и вместе расшифровывали с ним, правильно расшифровывали о том, как Анатолий Борисович Чубайс обсудил итоги решений последнего 25-го съезда КПСС. В своих предложениях он предложил усилить работу по реализации решений. Ну и так далее.
— Вашей команде казалось, что СССР сохранится?
— Да. До конца августа 1991 года. А в марте 1991 года, на референдуме об СССР, там шесть республик не участвовали, тем не менее, насколько я помню, и я, и Гайдар голосовали за сохранение СССР. А дальше произошел путч, и с этого момента картинка развернулась. Ты можешь считать все что хочешь, ты можешь любить СССР или не любить СССР, только ты должен понимать, что ты делаешь, если ты профессионал. В этот момент стало совершенно ясно, что нет никаких шансов на сохранение Советского Союза. У нас специально по этому поводу был такой семинар, конференция в Альпбахе, в Австрии. Мы написали целую альпбахскую декларацию, смысл которой состоял в том, что с этого момента надо заниматься реформами России, а не СССР.
— Немножко о другом. Вот у коммунистов много-много лет есть один и тот же аргумент: посмотрите на Китай, там осталась коммунистическая партия, там растет уровень жизни, они же вооружаются до зубов. А недавно стало, по-моему, очевидно, что у них и уровень ВВП на душу населения уже скоро догонит или уже перегнал нас. Как бы вы ответили на эти аргументы?
— Ну на этот давно-давно-давно произносимый аргумент есть давно-давно-давно данный ответ. Дело не в том, нравится тебе коммунистическая партия или не нравится. Здесь совсем другой вопрос и профессионально очень простой. Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством.
— То есть это форма перехода к рынку такая была?
— Ну, конечно. Как они при этом ухитряются, когда коммунистическая партия строит капитализм, это уже нужно спрашивать у китайцев, но они как-то умеют это делать. Но с точки зрения условий у тебя есть государство, которое начинает разворачивать рыночные реформы. «Мелкое», «небольшое» отличие России от Китая в конце 1991 года состояло в том, что (у нас.— “Ъ”) государства нет. Его не существует.
Ничего более чудовищного по степени сложности, как задача построения рыночной экономики в отсутствие государства, представить себе невозможно.
Наличие государства позволяет действовать плавно, постепенно, поэтапно, адаптируя экономику к очень непростым преобразованиям. Отсутствие государства заставляет действовать с плеча, со всего размаха, начиная с шоковой терапии и отпуска цен. Просто потому, что все остальные варианты хуже. В этом смысле, что такое суть 1990-х годов? Она очень простая. В 1990-е годы Россия решила всего две задачи. Задача №1 — восстановление российской государственности. Ее не существовало в конце 1991 года: ни Конституции, ни государственных границ, ни таможни — их просто не было! И государственных органов власти на самом деле тоже не было. А к концу 1990-х они были построены. И вторая задача — рыночная экономика. Не было ее в начале 1990-х, в конце 1990-х она появилась.
Это настолько фундаментальное отличие от китайцев, что этот аргумент надо вернуть обратно нашим коммунистическим друзьям и сказать: ребят, вы бы подумали бы об этом в 1968-м, 1969-м, когда сворачивали реформы Косыгина. Тогда еще это как-то могло иметь смысл. Ну мне кажется, что при раннем Горбачеве еще, может быть, можно было, в 1985–1986-м. Но с 1987–1988-го, когда все посыпалось… А в 1991-м, после путча, который разрушил Советский Союз,— нет, шансов не было.
— Ну, вы так легко отвечаете на их аргументы. А смотрите, какой устойчивый Зюганов. С чем связана его такая фантастическая устойчивость? С какой-то советской ментальностью населения? С чем?
— Это наше большое счастье, что он устойчивый. Мы все должны быть ему благодарны за то, что он устойчивый. Потому что количество сценариев или точек исторических, которые он мог развернуть на то, чтобы здесь собрать пару сотен тысяч людей и пойти на штурм Кремля, было несколько. В 1990-е годы были такие точки, до 1996-го года были такие точки. Просто забыли о том, как на демонстрации они собирали боевиков с ломами и железными прутьями.

Чубайс уверен: иметь такого оппозиционера как Зюганов — счастье российской власти
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
— 1993 год.
— 1993 год. Замечательный пример, но он не единственный. И в этом смысле, да, 1996 год сломал ему хребет. Прекрасно, вот именно такой он очень полезен.
— Как вы считаете, мнение Запада важно для России?
— Конечно. Точно так же, как и мнение Востока.
— А вот, кстати, слова Владимира Владимировича Путина о том, что у вас в правительстве советниками были офицеры ЦРУ. Что он имеет в виду?
— Ну Владимир Владимирович знает, о чем он говорит. В этом смысле у меня очень простой ответ. У нас, как известно, есть соответствующие структуры, которые должны заниматься выявлением, обнаружением и принятием решений по поводу такого рода товарищей. Значит, я бы хотел спросить, а чем они занимались? Чем занимались наши спецслужбы в 1992 году, 1993 году? Их вопрос. Провалили? Я бы нашел виновных и жестоко наказал.
— Петр Авен, с которым я делал интервью в рамках этих бесед, называл вас и Гайдара «империалистами». Что он имел в виду, как вы считаете?
— Да, я прочел интервью Пети. Кстати, интервью очень хорошее, интересное. Но мне кажется, что насчет Гайдара Петя сильно неправ. Меня-то можно как раз в этом обвинять, я известный либеральный империалист. А по отношению к Егору это несправедливо.

Егор Гайдар и Анатолий Чубайс уже остались в истории, как люди, помогавшие Борису Ельцину перевести Россию от социалистической экономики к рыночной
Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ
— Ну, расскажите про себя. Что вы имеете в виду как «либеральный империалист»? То есть…
— Ну, видите ли, я считал и сейчас считаю, что значение России в Евразии, если уже не говорить о мире в целом, не может быть таким же, каким значением обладает… не хочется называть конкретное название. Некоторые… да большинство стран, непосредственно наши соседи. Так сложилось исторически, так сложилось в конце концов географически, так сложилось по объему экономики, по численности населения, по роли в мировой культуре, что российское значение больше, чем значение некоторых стран—наших соседей. Это факт для меня!
Я не соглашусь с тем, что будущее России должно быть в этом смысле таким же, как будущее уважаемой мной Литвы или уважаемой мной Польши, или уважаемой мной Молдовы. Я считаю это фундаментально неправильным. Другим должно быть будущее России во всех смыслах, в том числе и с точки зрения влияния не только на русскую культуру, но и влияния на культуру вообще, влияния на экономику вообще, влияния на те ценности, которые в мире принимаются или не принимаются.
Я, к сожалению, никак не могу сказать, что сейчас ровно это и происходит. Как мне кажется, мы в значительной степени растеряли возможности такого влияния.
И всяческие идеи славянского единства и русского мира на сегодняшний день, к сожалению, умерли, если не сказать жестче.
Но я не про сегодняшний момент, а про суть. По сути, я считаю, что роль России в мире должна быть больше, чем роль многих стран, находящихся рядом с нами.
— Я хотел бы еще одну вашу цитату напомнить. Вы в 1990 году писали о «неготовности массового сознания к непопулярным реформам, неизбежном в связи с этим всплеске популизма». Что вы вообще думаете о сроках, в которые массовое сознание поддается переменам? Это очень актуальный вопрос в связи с тем, что вы начали разговор о советском и несоветском подходах.
— Скажу откровенно, какая-то нецелостная позиция на этот счет у меня для самого себя. С одной стороны, я знаю примеры того, как массовое сознание в нашей стране разворачивается очень быстро и очень эффективно буквально за полгода, к некоторым из них я имел отношение. С другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что сегодняшние приоритеты в массовом сознании в значительной степени воспроизводят то, что было 30–40 лет назад, и классическая формула о том, что в России за 10 лет меняется все, а за 100 лет не меняется ничего, она в общем тоже имеет место быть. Вот как соединить одно с другим, я сам не очень понимаю, у меня нет ясного ответа на этот вопрос.
— Когда вы с Гайдаром начинали реформу, какую модель мира вы имели в виду, к чему мы должны были прийти, к какой стране?
— Мы же, конечно же, были прежде всего экономистами и в меньшей степени политиками, и в меньшей степени философами. Нам, кстати говоря, не хватало, как мне кажется, такой гуманитарной составляющей, это удачный термин в данном случае. И из достаточного глубокого понимания экономики и процессов преобразования экономики мы как-то выходили на остальные сферы, но именно выходили, а это неправильно. Конечно же, нужно было понимать, как в целом российская культура, российская история предопределяет позиционирование России в мире, в том числе и в экономике. Нам, мне кажется, этого не хватало, и, кстати, именно поэтому мы долгое время вообще политикой заниматься не хотели.
Мы считали себя экономическими профессионалами, а не политиками.
— Вы тоже считаете, как Авен, что вам нужно было отклеиться и создавать свою партию?
— Авен очень хорош в выдаче этих советов, находясь в компании Альфа-банка, в отличие…
— В 2021 году.
— Тем более. В отличие от Авена я имел несчастье лет 15 создавать политические партии в России, руководить политическими партиями в России, участвовать в выборах в России и так далее. Я бы Пете очень хотел посоветовать заменить меня в этом качестве, и тогда я бы ему указывал, что здесь правильно, а вот здесь ты поздновато, не осознал, недооценил. Если говорить всерьез, то в 1993-м, в 1994 году, я считаю, абсолютно бессмысленным и невозможным было наше отделение от Бориса Николаевича. Даже создавая партию «Демократический выбор России» и «Выбор России», Егор Гайдар на отделение политическое от Бориса Николаевича не претендовал. С моей точки зрения, это поверхностно и неадекватно.
— Ваша встроенность по необходимости в политику в том, что вы проводили еженедельные совещания с телевизионными начальниками. И все говорят, что вот эти совещания с телевизионными начальниками, где им объясняют, как им нужно жить, начинали вы, а не те люди, которые потом пришли после вас.
— Мне очень нравится у части современной интеллигенции представление о том, что Чубайс совещаниями начал цензуру. Вообще говоря, выборы 1996 года…
— Речь не о цензуре, речь о запрограммированности.
— По сути дела, да. Выборы 1996 года, как сказал Михаил Зыгарь, сломали веру народа в демократию, а залоговые аукционы сломали веру в человека, вот там все корни, так все просто, понятно, естественно. Полная, абсолютная, стопроцентная чушь!
Но если вы задаете конкретный вопрос, я вам дам конкретный ответ. У меня есть хороший товарищ, он же оппонент, Алексей Венедиктов, которого вы хорошо знаете. Он давно об этом говорит, что Чубайс начал эти самые сборы регулярно, что правда. Я их точно начал. А я, Алексей Венедиктов, решительно и мужественно сказал, что не пойду на эти сборы. Вопрос следующий: что с тобой произошло, Леша? Тебя скрутили, надели наручники, сунули в каталажку, трубой по голове ударили или закрыли «Эхо Москвы», что произошло? Ответ: ничего, вообще ничего. Это собственно и есть ответ на вопрос.
Эти сборы я начинал, считаю их абсолютно правильными, очень хорошо помню, для чего и как я их проводил. Помню основные конструкции, они были очень простые, это был разговор off the record. Я не приглашал газету «Правда», извините, у меня тут есть некая маленькая слабость к коммунистам. Дорогие друзья, у нас в четверг Борис Николаевич собирается принять, не знаю там, президента такой-то страны, вот мы идем с таким-то набором запросов, они идут с таким-то набором запросов, мы хотели бы добиться вот этого. Не знаем, сможем добиться или нет, вот наша задача. А вот, что мы будем делать по линии шахтеров в экономике, вот что будем делать здесь, спасибо, до свидания.

Анатолий Чубайс — фигура всегда интересная журналистам
Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ
— В перестройку в начале 1990-х десятки миллионов людей выходили в защиту свободы. Ходили, писали, читали, говорили, потом встал довольно остро вопрос — водораздел: родина или свобода? Вы как отвечаете на этот вопрос? И нужно ли ставить этот вопрос?
— Конечно, в жизни очень много неприятных вопросов, которые не хочется ставить,— из серии, кого ты больше любишь, папу или маму? В некотором смысле политик — это и есть человек, который отвечает на вопрос, кого ты больше любишь — папу или маму. И не просто отвечает на этот вопрос, а понимает, что из его ответа следуют драматические последствия для папы или для мамы. А ты выбирай, ты не можешь уйти от ответа на этот вопрос.
Это интеллигенция может уйти, сказать, что это неправильная постановка вопроса. А тот, кто принимает решения за 145 млн человек, обязан отвечать и ставить вопросы.
Родина или свобода — это абсолютно фундаментальный вопрос, в котором для меня ответ давно предопределен.
Он ужасен, чудовищен для значительной части нашей интеллигенции, но ответ мной давно дан, за что я получил весь набор претензий от демократической интеллигенции. Я бы с вашего разрешения не хотел бы повторяться.
— Может быть, поэтому Авен вас называет «империалистом»?
— Может быть, поэтому, да.
— С какими потерями в жизни вы не можете смириться?
— В жизни есть всегда драматические события, связанные с потерями близких, друзей. Особенно тяжело, если речь идет о потерях людей, которые не просто дороги. У меня так получилось в жизни, что вовлекал в работу людей, которых убили за то, что они делали по моему поручению. Например, Миша Маневич, мой ближайший друг, прекрасный, честнейший, порядочный человек, убитый на своем посту. И это та ответственность, которую мы должны нести до конца жизни.
— Надо уточнить, что он руководил комитетом по управлению городским имуществом в Санкт-Петербурге.
— Да.
— Вы как-то сказали, что удалось изменить экономику, но не удалось изменить жизнь. Вы и сейчас так думаете?
— Да. Даже не видим, как отличается повседневная жизнь обыкновенного человека в России сегодня от жизни до реформ, как отличается любой деревенский магазин сегодня от магазина тогда, или как магазин «Елисеевский», сейчас вроде закрывают, отличается от того, чем он был тогда. Но не только магазин, а сама возможность вызвать такси по телефону, отремонтировать все, куда хочешь поехать. Это все потому, что экономика выстроена так, что она работает на спрос, на человека. А на спрос она работает, потому что она рыночная, а не наоборот.
Советская экономика работала в обратную сторону, ничто из этого было бы невозможно в тех условиях, и это изменение очень радикальное. И в тоже время, если говорить не об экономике, а говорить о предпочтении значительной части населения, о предпочтениях политических, предпочтениях во взаимоотношениях с другими странами, предпочтениях во внешней политике, они неожиданно для многих, да и для меня собственно тоже, оказались повторяющими далеко не лучшие образцы советского времени.
— Ваша нынешняя должность — спецпредставитель президента по связям с международными организациями, правильно я называю?
— В области достижения целей устойчивого развития.
— По-моему, сейчас вообще любая связь с международными организациями — это непросто. У меня вопрос немножко другой, комментариями к этому вашему назначению было, что вы не являетесь госслужащим и не являетесь сотрудником администрации президента. Мне это не совсем понятно.
— Здесь нет никакого двойного сложного дна. Во-первых, содержание, во-вторых, форма. Содержание: устойчивое развитие — это более чем серьезная концепция в спектре от общих философских корней до совершенно практических экономических и политических, смысл которых простой. Это такое развитие, которое не забирает ресурса у следующего поколения. Так сложилось, что человечество сегодня в целом своими темпами развития вроде бы идет динамично, мудро и быстро, но мы в действительности не понимаем того, что у наших детей не то что не хватит колбасы или нефти, они просто…
— Грета Тунберг об этом рассказывала.
— Совершенно правильно. Да, Грета Тунберг рассказывает об этом в наиболее радикальной форме, но эта же радикальная форма не лишена содержания. А содержание того, о чем она нам говорит сегодня, вы можете увидеть в заявлениях десятка стран от Китая до Соединенных Штатов о том, что они собираются выйти на углеродную нейтральность, то есть отказ от чистой эмиссии СО2 к 2050-му, к 2055 году. Или заявления ключевых автомобилестроительных фирм о том, что они прекращают производство двигателей внутреннего сгорания вообще.
Если чуть шире посмотреть, мы находимся в точке, когда вот вся техносфера, созданная на земном шаре, она, с одной стороны, поехала в создание таких новых секторов, отраслей, продуктов, которых не существовало вообще, о которых мы не имели представления, а с другой стороны, многие существующие, принятые, банальные для нас куски экономики исчезают, их не будет. Масштаб этих преобразований, с моей точки зрения, просто тектонический совершенно. И в этом смысле, конечно же, нужно это понимать, и с этой точки зрения и российскую политику додумывать, доосмыслять.
А насчет того, штатный или нештатный. Я уже очень много лет был штатным сотрудником, госслужащим. Я не являюсь госслужащим с 1998 года, как это ни странно. Я хорошо знаю все требования, ограничения, начиная с разрешения на командировку или отсутствие на рабочем месте, кончая отпусками и так далее. Я их не хочу, я считаю, что могу выполнять обязанности без этого.
— Я думал, что это дает вам возможность уйти в бизнес.
— Нет, уйти в бизнес мне это не дает возможности, это все-таки важная обязанность. В тоже время, вы правы, это снимает запрет. Например, я являюсь там членом совета директоров в компании «Система». Если бы я был госслужащим, я бы не имел права быть там, это тоже немаловажный момент.
— Скажите, пока все-таки жизнь складывается нормально, вы не боитесь, что начнется война?
— Мне кажется, что вообще за последние 30 лет нашей истории эта угроза, которая долгое время казалась вообще за пределами какой-то реальности.
К сожалению, сегодня для меня война не является угрозой, находящейся за пределами реальности.
Но представить себе что-то более страшное, чем это, я просто не могу. Мы сами до конца не понимаем, насколько это переламывает все приоритеты, возможности экономического развития, улучшения жизни людей и так далее. Поэтому я все-таки надеюсь, что эта угроза реальностью не станет.
— Что делает вас счастливым?
— Достижение цели.
— Спасибо большое.
Партнер проекта: ВКонтакте